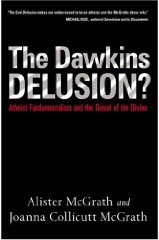

<!--[if !vml]-->Основное утверждение научного богословия заключается в том, что между методами и утверждениями естественных наук и христианским богословием может существовать фундаментальная синергия. Это поднимает множество вопросов, среди которых наиболее важным является вопрос о том, не является ли это предположение фатально ошибочным с самого начала. Если же существующая фундаментальная дивергенция является не более чем фундаментальным противоречием между христианским богословием и естественными науками, не означает ли это, что такой диалог невозможен, незаконен и лишен смысла?
Таков взгляд Ричарда Докинза, который считается сегодня в англоязычном мире наиболее плодовитым и агрессивным защитником концепции науки, которая «устраняет необходимость в Боге». Ввиду важности этой точки зрения необходимо рассмотреть ее более детально. Докинз является, возможно, одним из наиболее сильных критиков любого богословского рассмотрения реальности. Его образ как популяризатора естественных наук побуждает меня ответить ему.
Но существует второй аспект личности Докинза, который также требует ответа. Он больше, чем популяризатор науки — скорее, он является таким популяризатором, который имеет сильную убежденность в некоторых идеях, имеющих непосредственное отношение к богословию, рассматривая себя как светского человека, находящегося вне стен Церкви. Поскольку научное богословие рассматривает себя как богословие публичное, очевидно важно заняться рассмотрением публичного восприятия острых трений между наукой и богословием.
Согласно Докинзу, наука смела Бога с публичной арены и перевела Его в низший ранг нашей культуры. Бог отходит в свои интеллектуальные и культурные кварталы (такие как университетские факультеты теологии) — но и это только временно. Это просто вопрос времени, поскольку прогресс науки окончательно уничтожит последние воспоминания о Боге в человеческом сознании, и мир в результате станет лучше. Таково популярное восприятие послания сочинений этого популяризатора науки и апологета атеизма из Оксфорда. В этом эссе я хочу поднять некоторые фундаментальные проблемы, связанные с этим восприятием. Я намереваюсь быть уважительным и честным, но думаю, что одно необходимо прояснить с самого начала — я убежден, что выводы Докинза относительно религии и богословия являются концептуально ненадежными, интеллектуально преждевременными и, очевидно, недостаточно обоснованными.
Впервые я пересекся с Докинзом в 1977 году, когда прочитал его первую и главную книгу «Эгоистичный ген». В это время я завершал свою докторскую диссертацию на факультете биохимии Оксфордского университета под гениальным руководством профессора сэра Джорджа Рэддея, который стал впоследствии исполняющим директором Совета по медицинским исследованиям. Я пытался представить, каким образом биологические мембраны способны действовать столь успешно, развивая новые физические методы своего поведения. Книгой, считавшейся научно-популярным сочинением, я был удивлен. Однако рассмотрение религии Докинзом, и в особенности его мысли о «Боге-меме» показались мне неудовлетворительными. Докинз сделал несколько неуклюжих попыток дать объяснение идее «веры» без установления какого бы то ни было аналитического или аргументационного базиса своей рефлексии. Я был удивлен этим и сделал тогда некоторые заметки, а двадцать пять лет спустя, наконец, представил разъяснение своей позиции в своей книге «Докинз: Бог: гены, мемы и смысл жизни»[1].
Тем временем Докинз выпустил серию замечательных и провокационных книг, каждая из которых вызывала мой интерес и восхищение. Вслед за «Эгоистичным геном» вышли «Расширенный фенотип» (1981), «Слепой часовщик» (1986), «Река из Эдема» (1995), «Восхождение на гору невероятного» (1996), «Расплетая радугу» (1998), собрание эссе «Капеллан дьявола» (2003), и, не так давно, — «Сказка о предке» (2004). Невозможно не заметить изменений, которые произошли в тоне и фокусе сочинений автора. Как указывает в рецензии на книгу «Капеллан дьявола» философ Майкл Рьюз, «внимание Докинза перескочило с сочинений о науке для популярной аудитории к всесторонней атаке христианства»[2]. Замечательный популяризатор науки стал диким антирелигиозным полемистом, скорее, проповедующим, нежели аргументирующим свою позицию[3]. И все же я до сих пор в удивлении. Позвольте мне объяснить.
Докинз эрудированно и искусно пишет о вопросах эволюционной биологии, очевидно, мастерски разбираясь в тонкостях этой области и в обширной исследовательской литературе. Однако когда он приступает к рассмотрению каких-либо вопросов о Боге, мы попадаем в совершенно другой мир. Это мир школьника, полемизирующего с обществом, ссылающегося на довольно горячие, с энтузиазмом сделанные утверждения, пахнущие некоторыми сильными преувеличениями и более чем случайной ошибочной интерпретацией (случайной, я могу вас уверить). И все это для того, чтобы сделать правдоподобными некоторые неглубокие высказывания — аргументы, которые, когда я был школьником, убеждали меня, будто атеизм является единственным мнением мыслящего человека. Но это было тогда. А что сейчас?
Подход, который я использую в этом эссе, прост: я хочу сделать вызов той интеллектуальной связи между естественными науками и атеизмом, которая наполняет сочинения Докинза. Начиная с дарвиновской теории эволюции, Докинз подходит к абсолютно атеистическому мировоззрению, которое проповедует с мессианской целью или недосягаемой уверенностью. Если он прав, тогда вся затея научного богословия должна быть в лучшем случае печальной интеллектуальной ошибкой, показывая полное отсутствие рассудительности автора, а в худшем случае полным научным обманом. Но является ли эта связь между наукой и атеизмом чем-то похожим на то, в чем хочет убедить нас Докинз? Моим намерением не является критика науки Докинза; это прерогатива научного сообщества. Скорее, я хочу исследовать глубоко проблематичную связь между научным методом и атеизмом, которую Докинз временами просто предполагает, а временами и явно защищает, и которая, если она хотя бы частично справедлива, должна низвергнуть проект научного богословия.
Так как это эссе представляет критическую встречу с Докинзом, я думаю, что сначала важно прояснить, что я уважаю, даже восхищаюсь автором в некоторых областях. Во-первых, он является выдающимся популяризатором. Когда я впервые прочитал его книгу «Эгоистичный ген» в 1977 году, я понял, что это удивительная книга. Меня восхитила способность Докинза подбирать слова и объяснять важные, хотя часто трудные научные идеи столь прозрачно. Его книга — одно из лучших популярных научных сочинений.
Во-вторых, я восхищаюсь способностью Докинза предоставлять обоснованную аргументацию. Утверждения должны быть основаны на доказательстве, а не на предубеждении, традиции или невежестве. Это относится к его убежденности в том, что люди, которые верят в Бога, делают так перед лицом свидетельства, которое придает такую страсть и энергию его атеизму. В сочинениях Докинза религиозные люди демонизируются как бесчестные, лживые, глупые и жульничающие, не способные к честному размышлению о реальном мире и предпочитающие изобретать ложный иллюзорный мир, в который входят опрометчивые, молодые и наивные.
Дуглас Адамс вспомнил одно замечание Докинза: «В действительности я не думаю, что я невежественен, однако я нетерпим к людям, которые не разделяют со мной той же скромности перед фактами»[4]. Здесь можно невольно вздрогнуть от напыщенности, которая будет напоминать христианам легендарных в своей праведности фарисеев. Хотя в этом предложении содержится важный посыл: необходимость рассуждать на основании доказательств. Докинз делает вызов богословам. Почему вы верите в это? Фактически, почему вы верите во что-либо? Я полагаю, что признание этой необходимости — и принятие соответствующих действий на основе этого — полностью инкорпорируется в научное богословие.
В качестве первого шага будет полезно рассмотреть основные причины того, почему Докинз столь критичен к религии и богословию. В этом эссе я предлагаю рассмотреть пять областей критики Докинзом религии и теологии, прослеживая траекторию его аргументации, а также поднять вопрос об основаниях этой аргументации. Эта критика разбросана по всем его сочинениям, и будет полезно собрать ее воедино, чтобы дать согласованный взгляд и показать, в какой степени она угрожает проекту научного богословия[5]. Хотя временами я и буду рассматривать некоторые следствия христианского богословия — и то главным образом с целью корректировки ошибочного понимания Докинза — тем не менее, будет очевидно, что большинство позиций, о которых будет идти речь, основаны на истории и философии естественных наук. Перед тем, как перейти к полному рассмотрению и критике, кратко представлю те пять областей, которые мы будем исследовать:
1. Для Докинза естественные науки обладают способностью объяснить мир, устраняя необходимость обращения к другим интеллектуальным дисциплинам, таким как богословие. Концептуальное пространство богословия устраняется научным прогрессом.
2. Докинз утверждает, что научный метод вообще и дарвинизм в частности сделали веру в Бога излишней или интеллектуально невозможной. Принятие дарвинистского мировоззрения означает принятие атеизма. Хотя эта тема проникает через все сочинения Докинза, особенно детально она рассмотрена в книге «Слепой часовщик».
3. Докинз настаивает на том, что религиозная вера является ничем иным как «слепой верой в отсутствии свидетельств»[6], а потому полностью противоречит научному методу.
4. Согласно Докинзу, причина того, что вера в Бога остается широко распространенной, обусловлена эффективностью ее средств пропаганды, а не согласованностью с аргументами. Эта эффективная передача обусловлена тем, что Докинз называет «мем» или «вирус», который так или иначе инфицирует здоровые умы.
5. Религия предполагает и распространяет жалкий, ограниченный и искаженный взгляд на вселенную в противоположность замечательному и прекрасному видению естественных наук.
Мы рассмотрим эти аргументы.
Универсальная форма естественных наук
Докинз позиционирует себя как одного из наиболее красноречивых и откровенных сторонников универсальной формы научного метода. Наука является единственным надежным инструментом, которым мы обладаем, чтобы понять мир. Этот взгляд, находящий отражение во всех сочинениях Докинза, особенно акцентирован в книге «Расплетая радугу», которая может рассматриваться как энергичная защита универсальной формы, концептуальной элегантности и эстетической плодотворности естественных наук[7]. Эта идея не является специфичной для Докинза, который здесь отражает редукционистский подход к реальности, представленный в сочинениях таких авторов, как Френсис Крик[8]. Но все же этот подход нельзя поддерживать[9]. В своей утонченной недавней критике философской ущербности большинства современных научных сочинений, в частности в области нейронаук, Беннетт и Хакер делают три фундаментальных замечания, которые лежат в основе наивного взгляда, будто «наука объясняет все»[10].
Прежде всего, не существует в действительности такой вещи как «объяснение мира» — существует только объяснение явлений, которые наблюдаются в мире. Во-вторых, научные теории не могут и не имеют намерения описывать «все в мире». Право, экономика и социология могут быть приведены в качестве примеров дисциплин, которые занимаются феноменами, специфичными для них, без какого-либо подчинения естественным наукам. Используя язык критического реализма, который лежит в основании проекта «научного богословия», можно сказать, что реальность является стратифицированной, и каждый уровень требует исследования и интерпретации с использованием методов и концепций, соответствующих этой страте. В-третьих, существует множество вопросов, которые по своей природе должны быть признаны лежащими за рамками законной формы научного метода, как, например, объяснение падения Римской империи, возникновение протестантизма или начало Первой мировой войны. К таким вопросам относится также и вопрос о том, существует ли цель в природе. Он обычно исключается из споров в рамках естественных наук, особенно эволюционной биологии. В то же время нельзя утверждать, что это незаконный вопрос для человека. Просто необходимо признание, что в силу своих методов и их правильного применения естественные науки не способны ответить на эти вопросы. Проблема не в том, что этот вопрос является незаконным или бессмысленным; просто необходимо понять, что он лежит за рамками научного метода. Решительная помолвка Докинза с «универсальным дарвинизмом» приводит его к предположению, что эта «теория всего» может рассматривать такие вещи. Однако, как я надеюсь показать в дальнейшем, такие надежды являются теоретически неоправданными.
Дарвинизм и невозможность богословия
А что можно сказать о законности самого богословия? Докинз дает поразительно простой пример ответа на этот вопрос. Эволюционный процесс не оставляет концептуального пространства для Бога, и, следовательно, для какой-либо интеллектуальной дисциплины, называемой «богословие» — без того, чтобы оно могло быть объяснено посредством рационального научного объяснения патологического или отклоняющегося умственного процесса, который приводит некоторых людей к вере в Бога, когда в действительности такой Бог не существует. Все, что древние поколения объясняли посредством апелляции к божественному Творцу, может быть объяснено в рамках дарвиновской парадигмы. Нет никакой нужды верить в Бога после Дарвина. Человечество было ребенком. Теперь мы выросли и отвергли детские объяснения. И Дарвин является тем, кто отмечает эту решительную точку перехода. Интеллектуальная история, таким образом, разделена на две эпохи: до Дарвина и после Дарвина. Как полагает Джеймс Уотсон, открыватель структуры ДНК: «Чарльз Дарвин в конечном итоге будет рассматриваться как более влиятельная фигура в истории человеческой мысли, чем Иисус Христос или Мухаммед».
Сказать по правде, эти исторически некомпетентные взгляды, часто возвышающие Дарвина до нелепых уровней, являются широко распространенными в кругах эволюционных биологов. Например, в своем введении в концепцию эволюции Эрнст Майр делает поразительное утверждение, что «Происхождение видов» Дарвина «почти без посторонней помощи повлияло на секуляризацию науки»[11], совершенно не понимая очевидность исторической абсурдности этого утверждения. Возможно, несправедливо выделять здесь Майра, так как он просто следует знакомому упрощению истории культуры, которое можно найти во многих популярных эволюционных сочинениях, которые уже давно дискредитированы серьезной исторической наукой. Даже беглое прочтение ответа Дарвину британских и американских интеллектуальных кругов показывает, насколько все это является диким преувеличением, историческим нонсенсом, который был принят в результате факта простого бесконечного некритического повторения первоначальной ошибки[12]. Реальность гораздо более сложна; если кто-то говорит о «секуляризации» науки, необходимо рассмотреть гораздо большее количество факторов, охватывающих период почти в столетие, нежели провозглашать одного человека или одну книгу повлиявшими на такое изменение в установившемся мышлении. Следуя линии «Дарвин изменил все», Докинз утверждает, что до Дарвина было возможно рассматривать мир как нечто, задуманное Богом; после Дарвина мы можем говорить только об «иллюзии замысла». Дарвиновский мир не имеет цели, и мы обманываем себя, если думаем иначе. Если вселенная не может быть описана как «благо», она также не может быть описана и как «зло»[13].
Во вселенной слепых физических сил и генетической репликации некоторые люди склонны к тому, чтобы причинять боль, другие к тому, чтобы быть счастливыми, и вы не найдете в этом никакой гармонии или причины, никакой справедливости. Вселенная, которую мы наблюдаем, имеет именно те свойства, которые мы должны ожидать, если не существует вообще ни замысла, ни цели, ни зла, ни добра, ничего, но слепое безжалостное безразличие.
Но некоторые настаивают, что на самом деле у вещей есть «цель», и приводят свидетельства замысла вещей в поддержку этого. Так, например, подобные критики утверждают, что внутренняя структура глаза человека указывает на нечто, что не может быть объяснено посредством естественных сил, и это обязывает нас апеллировать при объяснении к божественному Творцу. Как иначе можем мы объяснить огромные и сложные структуры, которые мы наблюдаем в природе?[14] Докинз отвечает на это в двух своих книгах — «Слепой часовщик» и «Восхождение на гору невероятного». Фундаментальный аргумент, общий для обеих книг, заключается в том, что сложные вещи эволюционируют из простых в течение длительного периода времени[15]. Живые вещи «задуманы» слишком невероятно и слишком прекрасно, чтобы возникать случайно. Но тогда каким образом они возникли? Ответ Дарвина заключается в постепенном пошаговом преобразовании из несложных начал, из первоначальных сущностей, достаточно простых, чтобы возникнуть случайно. Каждое последующее изменение в постепенном эволюционном процессе по отношению к его предшественнику было достаточно простым, чтобы возникнуть случайно. Но вся последовательность накопленных шагов конституирует нечто отличное от случайного процесса. Что можно сказать об этом в высшей степени невероятном развитии, нуждающемся в огромном периоде времени для своего осуществления? Докинз исследует его с использованием метафоры «гора невероятного». Если рассматривать ее с одного угла, со стороны «высоких, вертикальных скал», она кажется недоступной для восхождения. Но если посмотреть на нее с другой стороны, гора «мягко откроет пологий склон, покрытый травой, по которому можно постепенно и легко взойти к далеким вершинам»[16]. «Иллюзия замысла», утверждает Докинз, возникает вследствие того, что мы интуитивно рассматриваем структуры как слишком сложные для того, чтобы они могли возникнуть случайно. Отличным примером является человеческий глаз, приводимый некоторыми сторонниками божественного замысла и непосредственного осмысленного творения мира как надежное доказательство существования Бога. В одной из наиболее детальных и аргументированных глав «Восхождения на гору невероятного» Докинз утверждает, что при достаточном времени даже такой сложный орган может возникнуть из чего-либо более простого[17].
Все это обычный дарвинизм. Но что нового в этом, так это ясность представления и детальная иллюстрация и защита этих идей посредством разумно подобранных примеров и тщательно продуманных аналогий. Здесь Докинз является скорее приверженцем мировоззрения дарвинизма, нежели биологической теории; он не колеблется в принятии аргументов, выходящих далеко за чисто биологические рамки. Слово «Бог» отсутствует в индексе «Слепого часовщика» именно потому, что Бог отсутствует в дарвиновском мире, в котором живет и который восхваляет Докинз[18]. Но Докинз не намерен останавливаться на этом. Некоторые могут сделать вывод о том, что дарвинизм предполагает агностицизм. Но это не так: согласно Докинзу, Дарвин толкает нас к атеизму. И здесь-то начинаются проблемы. Докинз с уверенностью продемонстрировал, что может быть предложено чисто естественное описание того, что известно об истории и настоящем состоянии живых организмов. Но почему это должно приводить к выводу о том, что Бог не существует? На самом общем уровне является общепризнанным, что научный метод не способен судить о гипотезе Бога ни положительно, ни отрицательно. В силу своей природы научный метод неспособен к решению вопроса о Боге. Те, кто полагают, что такой метод доказывает или ниспровергает Бога, выталкивают этот метод за его законные пределы, и, таким образом, рискуют дискредитировать его.
В 1992 году, критикуя антиэволюционную работу, которая утверждала, что дарвинизм является с необходимостью атеистическим, Стивен Джей Гоулд отметил, что наука просто не может по характеру своих методов решать вопрос о возможном вмешательстве Бога в природу. Мы ни утверждаем, ни отрицаем этого; мы просто не можем комментировать это как ученые[19]. Гоулд справедливо настаивает на том, что наука может работать только с натуралистическими объяснениями; она не может ни утверждать, ни отрицать существование Бога. Предельная линия для Гоулда заключается в том, что дарвинизм действительно не имеет отношения к существованию или природе Бога. Для Гоулда является наблюдаемым фактом то, что эволюционные биологи являются и атеистами, и теистами: он приводит такие примеры, как гуманист-агностик Дж.Дж. Симпсон и русский православный христианин Феодосий Добжански. Это приводит его к заключению: «Или половина моих коллег чрезвычайно глупа, или дарвиновская наука является полностью совместимой с традиционными религиозными верованиями — и в равной степени с атеизмом». Если дарвинисты выбирают путь догматизации вопроса об отношении к религии, они выходят за рамки чисто научного метода и переходят в область философии. Природа снисходительна к прочтению и атеистом, и теистом, и агностиком — но не требует ни одного из этих подходов. Или вывод не может быть достигнут вообще в таких вопросах, или он достигается на других основаниях.
Мы видим здесь важную позицию, которая является интегральной для проекта «научного богословия» — а именно, что сама природа может быть интерпретирована различным образом, каждый из которых может считаться легитимным по отношению к естественным наукам, и ни один из которых в действительности не является для них необходимым[20]. Если использовать текстуальную метафору, то «природа» является книгой, которая может быть прочитана различными способами, ни один из которых не является самоочевидным или необходимо «правильным» прочтением. Книга природы может быть прочитана христианским, атеистическим или агностическим образом. Ни один из них не является необходимым; все могут претендовать на правильное описание.
Одна из наиболее поразительных вещей в атеизме Докинза — это уверенность, с которой он утверждает неизбежность этого атеизма. Это курьезная уверенность, неуместно курьезная для всех, кто знаком с философией науки. Как часто указывал Ричард Фейнман (1918-1988), нобелевский лауреат по физике 1965 года за вклад в квантовую электродинамику, научное знание представляет собой совокупность утверждений различной степени достоверности — некоторые более достоверны, некоторые менее, но никогда абсолютно[21]. Докинз выводит атеизм из «книги природы», как если бы это был вопрос чистой логики. Атеизм утверждается так, как если бы он был единственным возможным выводом из серии аксиом. Докинз представляет дарвинизм как интеллектуальную дорогу к атеизму. В реальности, интеллектуальная траектория, очерченная Докинзом, в лучшем случае приводит к агностицизму. Между дарвинизмом и атеизмом есть существенная логическая пропасть, которой Докинз предпочитает мост риторики, нежели доказательств. Если он желает достигнуть надежных выводов, они должны иметь другие основания.
Вера и доказательство в науке и богословии
«Вера означает слепое доверие при отсутствии доказательств, даже если доказательства "в зубах"»[22]. Этот взгляд, присутствующий еще в сочинениях до 1976 года, играет для Докинза решающую роль в критике религии и богословия и является одним из выражений того «ядра убеждений», которое определяет отношение ученого к религии. Иногда Докинз усиливает это ядро убеждений (например, утверждая, что вера есть «вид ментальной болезни»)[23], но нигде он не подвергает свое определение столь необходимому тщательному исследованию. Действительно ли именно это христиане подразумевают под верой? Откуда проистекает подобное утверждение?
Как мы отмечали, Докинз утверждает, что вера «означает слепое доверие при отсутствии доказательств, даже если доказательства "в зубах"». Однако Докинз не представляет защиты своего определения, которое имеет мало отношения к смыслу этого слова, и тем более к его религиозному смыслу. Не предлагается никакого доказательства, что это утверждение представляет мнение религиозных людей. В поддержку этого утверждения не цитируется никакой авторитетный источник. В действительности, конечно, это собственное определение Докинза, сконструированное риторически с собственной полемической программой в уме, представленное как если бы это была характеристика тех, кого он желает критиковать. Оно, возможно, представляет один из наиболее характерных примеров «соломенного человека» в современных антирелигиозных сочинениях.
Я не сомневаюсь, что Докинз на самом деле убежден в том, что религиозные люди утверждают, будто вера в действительности является «слепой уверенностью». Хотя, поскольку он желает публичных споров, он должен оперировать общепринятым определением. Я не имею возражений против того, что Докинз критикует идеи христианской веры. Но я не вижу причин позволять ему неправильно интерпретировать эти идеи или позволять ему развивать полемические определения «веры» с целью набора очков в полемике. То, что большинство христианских авторов не принимают такого определения — это простой факт. Но это ядро веры Докинза, которая определяет каждый аспект его отношения к религии и религиозным людям. Концепция веры, которую стремится критиковать Докинз, не является христианской концепцией веры.
Один раз Докинз уходит от грубого обобщения и цитирует христианского автора по вопросу о природе веры. Он использует писателя II века Тертуллиана (160-225) для особенно едкого комментария при рассмотрении двух цитат из его сочинений: «Это несомненно, ибо невозможно», и «в это все верят, потому что это абсурдно»[24]. У Докинза мало времени для рассмотрения такого нонсенса. По его мнению, подход Тертуллиана — как засвидетельствовано двумя приведенными цитатами — совершенно такой же, как Белой королевы в сказке Льюиса Кэролла «Зазеркалье», которая настаивала на вере в шесть невозможных вещей перед завтраком. И это цитирование Тертуллиана является одним из очень немногих случаев, когда Докинз касается серьезных представителей христианской богословской традиции, поэтому я предлагаю рассмотреть его комментарий со всей серьезностью и посмотреть, откуда он взят.
Прежде всего, необходимо пояснить, что Тертуллиан никогда не писал слов «в это все верят, поскольку это абсурдно». Эта ошибочная интерпретация приписывается ему часто, особенно в сочинениях сэра Томаса Брауна, которого Докинз также цитирует здесь. Но это ошибочное цитирование, которое известно уже достаточно давно[25]. Итак, по крайней мере, мы можем с уверенность утверждать, что Докинз не читал самого Тертуллиана, но взял эту цитату из ненадежного, хотя и влиятельного вторичного источника.
Тертуллиан, однако, написал слова «несомненно, ибо невозможно»[26]. Контекст, однако, делает очевидным, что он совершенно не высказывался в пользу «слепой веры». В этом пассаже, в противоположность тому, что думает Докинз, Тертуллиан не обсуждает отношение веры и разума или доказательную основу христианства. Смысл высказывания в том, что христианское Евангелие является глубоко контр-культурным и контр-интуитивным в своем акценте на центральности смерти Христа на Кресте. Так почему кто-то желает утверждать это, если по стандартам мудрости это неправдоподобно? Затем Тертуллиан пародирует пассаж из «Риторики» Аристотеля, утверждающего, что экстраординарное утверждение может быть истинным именно потому, что оно выходит за рамки обычного. Это был риторический прием, нацеленный на тех, кто был знаком с Аристотелем. С 1916 года стало очевидно, что Тертуллиан в этом высказывании творчески использовал некоторые идеи Аристотеля. Джеймс Моффат, который впервые указал на это, замечает очевидную абсурдность слов Тертуллиана, перед тем как обратить внимание на это поверхностное суждение: это один из наиболее дерзких парадоксов у Тертуллиана, одно из кратких, говорящих предложений, в котором он, не колеблясь, разрушает смысл слов для того, чтобы акцентировать внимание. Он умышленно преувеличивает для того, чтобы обратить внимание на истину, которую он говорит. Эта фраза часто ошибочно цитируется, и еще более часто предполагается, что она содержит иррациональное предубеждение, как если бы он презирал и отвергал значение интеллекта в религии — предположение, которое не выдерживает критики при первом же знакомстве с сочинениями африканского отца[27].
Но это только один из серии аргументов в пользу христианской веры, которые использует Тертуллиан, и совершенно неправильно определять все его отношение к рациональности на основании одной изолированной фразы[28]. Отношение Тертуллиана к разуму со всей определенностью видно в следующем высказывании: «Итак, разум является свойством Бога, так как не существует ничего, что Бог, Творец всех вещей, не предвидел, расположил и определил посредством разума. Более того, не существует ничего, чего Бог не пожелал исследовать и понять посредством разума»[29]. Основная линия мысли в том, что не существует пределов того, что может быть «исследовано и понято разумом». Тот же Бог, который создал человечество со способностью разума, ожидает, что этот разум будет использован в исследовании и представлении мира. И на этой позиции стоит подавляющее большинство христианских богословов современности, и так было и в прошлом. Несомненно, есть исключения. Но Докинз, кажется, предпочитает рассматривать исключения, как если бы они были правилом, не предлагая никакого свидетельства в поддержку этого весьма спорного заключения. Вера, говорит нам Докинз, «означает слепое доверие при отсутствии доказательств, даже если доказательства "в зубах"». Возможно, именно так думает Докинз; однако, не так думают христиане. Позвольте мне представить определение веры, предложенное У.Х. Гриффит-Томасом (1861-1924), англиканским богословом, который был одним из моих предшественников на посту руководителя Уиклиф-холла в Оксфорде. Определение веры, которое он предлагает, является типичным для любого христианского автора: «Вера влияет на всю природу человека. Она начинается с убеждения разума, основанного на адекватном свидетельстве; она продолжается в уверенности сердца или эмоциях, основанных на убеждении, и она венчается согласием воли, посредством которой выражаются убеждение и уверенность»[30]. Это хорошее определение, синтезирующее ключевые элементы, характерные для христианского понимания веры, и в то же время показывающее характерную озабоченность проповедника тремя составляющими проповеди, которые начинаются с одной и той же буквы алфавита (в англ. языке — прим. ред.) Для Гриффина-Томаса вера «начинается с убеждения разума, основанного на адекватном свидетельстве». Другие христианские авторы с легкостью бы поддержали эту позицию[31]. В любом случае, Докинзу следовало бы продемонстрировать на основании строгих аргументов, что его искаженное и бессмысленное определение «веры» является характеристикой христианства. Фальшивая апелляция к Тертуллиану вряд ли добавит уверенности его позиции.
В высшей степени упрощенная модель рассуждения, предложенная Докинзом, признает только два варианта: 0 % вероятность (слепая вера) и 100 % вероятность (вера, вызванная неоспоримым свидетельством). Все же большая часть научной информации нуждается в том, чтобы обсуждаться в терминах вероятностных заключений, достигаемых на основе доступных свидетельств. Такие подходы широко используются в эволюционной биологии. Например, Эллиот Собер предложил понятие «модус Дарвина» для аргументации в пользу общего дарвинистского предка на основе настоящих сходств между видами[32]. Этот подход может работать только на основе вероятности, приводя к вероятностным суждениям. В этом нет никакой проблемы. Он является попыткой количественно оценить надежность выводов. Но я не вижу никакого признания Докинзом необходимости вероятностных суждений или достижения заключений, которые подтверждены, хотя и не доказаны окончательно, определенными свидетельствами.
Интересно обратиться от этого, довольно сырого анализа образа наших суждений к более тщательным аргументам Ричарда Суинберна, бывшего ранее профессором философии религии Оксфордского университета, и использующего теорию вероятностей для того, чтобы оценить достоверность веры в Бога — или, в более узком смысле, христианской веры в то, что Иисус Христос есть Воплощенный Бог[33]. Я не ожидаю, что Докинз согласится с теистическим выводом Суинберна или его провокационными вычислениями высокой вероятности существования Бога. Но я желаю ему показать то же пристальное внимание к деталям оценки относительной вероятности веры и неверия вместо используемых им обычных популистских риторических предубеждений.
Прежде всего, Докинз, а не Суинберн позиционировал себя как ученого. Однако здесь существует также и другой вопрос. Многие из большой склонности к философии желают задать Докинзу вопрос: признавая, что естественные науки получают свои выводы из наблюдаемых данных, как может он быть столь уверен в атеизме? Временами Докинз говорит с убеждением истинно верующего об определенном отсутствии Бога. Это как если бы атеизм был неизбежным результатом подобных логических аргументов. Но как можно достичь такой уверенности, когда естественные науки не являются дедуктивными по своим методам?
Эта трудность озадачила меня во время чтения работ Докинза. Определенности в его ответе нет, а потому необходимо предпринять огромный труд, чтобы не сделать преждевременных выводов. Так как же Докинз пришел к уверенности в отсутствии Бога? Другие исследовали подобные свидетельства и пришли к совершенно противоположным выводам.
Как становится ясно из вышесказанного, настойчивое убеждение Докинза о том, будто атеизм является единственным законным мировоззрением для естествоиспытателя — в высшей степени ненадежное суждение. Мое беспокойство не ограничивается искаженными примерами, которые Докинз использует в поддержку своих убеждений; я обеспокоен более дикостью, с которой он утверждает свой атеизм. Очевиден ответ: основания атеизма Докинза лежат не в его науке, а в чем-то ином — в том, что обусловливает столь эмоциональный аспект его убеждений. Но все же я не натолкнулся на что-либо, что побуждает сделать меня этот вывод. Ответ должен лежать где-то в другом месте.
Я начал искать ответ на мой вопрос во время тщательного анализа специфического стиля рассуждения, который мы находим в сочинениях Докинза. В важном сравнительном исследовании Тимоти Шанахан указывает на то, что подход Стивена Джея Гоулда к вопросу об эволюционном прогрессе определяется индуктивным подходом, основанным, главным образом, на эмпирических данных[34]. О Докинзе он говорит, что он «занимался разработкой логики «"адаптационистской философии" для дарвиновского рассуждения». Это предполагает, что заключения Докинза определяются набором логических предпосылок, которые, в конечном счете, хотя и косвенным образом, основаны на эмпирических данных. «Сама природа правильного дедуктивного аргумента такова, что из определенных предпосылок с логической необходимостью следуют определенные выводы совершенно независимо от того, являются ли эти предпосылки верными». Докинз использует индуктивный подход для того, чтобы защищать дарвиновское мировоззрение, а затем извлекает из этого мировоззрения набор предпосылок, из которых посредством дедукции могут следовать его выводы. Хотя Шанахан ограничивает свой анализ исследованием того, как Гоулд и Докинз приходят к столь противоположным выводам в отношении эволюционного прогресса, его анализ очевидно можно расширить и на его религиозные взгляды. Считая, что дарвинизм является лучшим объяснением того, что может быть наблюдаемо в мире, Докинз пытается преобразовать временную теорию в определенное мировоззрение. Атеизм, таким образом, представлен как логический вывод из серии аксиоматических предпосылок, имеющих надежность дедуктивного вывода.
Докинз представляет атеизм как единственный приемлемый вывод из разумного рассмотрения свидетельств. В то же самое время Докинз не желает признавать сложность определения «большой картины» на основе наблюдения. Процесс определения «наилучшего объяснения» сложного набора наблюдений является еще более сложным, особенно в отсутствие согласия относительно того, как определить, какое объяснение является лучшим.
Серьезные недостатки упрощения Докинзом научного объяснения лучше видны при обращении к классическому исследованию философа Гильберта Хармана, который утверждал, что процесс индуктивного вывода, столь характерный для естественных наук, может быть описан как «вывод наилучшего объяснения»[35]. Этот процесс, который, вероятно, лучше было бы назвать «движением к наилучшему объяснению», может быть представлен как процесс «принятия гипотезы на основании того, что она обеспечивает лучшее объяснение свидетельств, нежели альтернативные гипотезы»[36]. Это не окончательное доказательство, но набирающее вес свидетельство, приводящее к признанию, что одно из множества конкурирующих объяснений является предпочтительным. Вопрос не в том, какое из объяснений является доказанным окончательно (так как такие уровни доказательства часто выходят за рамки наших исследований), но какое из объяснений лучшее. Или, возвращаясь к байесианской форме мышления, какое является более вероятным.
Возможно, наиболее известной научной работой, которая использует метод выбора наилучшего объяснения, является труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Поэтому небезосновательно требование Докинзом окончательного доказательства, поскольку сам Дарвин использовал тот же метод и рассматривал его как необходимый при такой сложности наблюдательных данных и отсутствии каких-либо средств решительного подтверждения его теории. В своей работе Дарвин представил значительный массив наблюдательных данных, которые могли быть объяснены на основе естественного отбора, но при этом вступали в некоторый конфликт с доминировавшей тогда теорией специального творения отдельных видов[37]. Следует отметить, что Уильям Уивелл развил понятие «совпадения» как средства измерения объяснительной силы объяснений, и Дарвин в значительной степени находился под влиянием этого представления[38].
Ввиду важности метода Дарвина в подходе Докинза к науке мы можем остановиться, чтобы рассмотреть, как великий герой Докинза рассматривает вопрос о доказательстве, которое не абсолютно доказывает что-либо, хотя и может указывать на определенное направление. Для Дарвина надежные наблюдения требуют объяснения[39]. Так что же является наилучшим объяснением, которое необходимо выбрать из множества конкурирующих объяснений?
1. Формы определенных живых существ выглядят приспособленными к их специфическим условиям. Уильям Пэйли и другие предполагали, что эти создания были индивидуально сотворены Богом с такой приспособленностью. Дарвин рассматривал это как нескладное объяснение.
2. Некоторые из известных видов вымерли. Этот факт был известен до Дарвина, и часто объяснялся на основании теории катастроф — таких как «всемирный потоп», о котором говорится в библейском повествовании.
3. Исследовательское путешествие Дарвина на Бигле убедило его в неравномерном географическом распределении живых форм по миру. В частности, Дарвин находился под впечатлением различия популяций Галапагосских островов.
4. Многие создания обладают «рудиментарными структурами», которые не имеют очевидной или предсказуемой функции — такие как соски у самцов млекопитающих, рудименты тазовых и задних конечностей у змей, и крылья у многих нелетающих птиц. Как это может быть объяснено на основании теории Пэйли, которая акцентирует внимание на важности индивидуального замысла каждого вида? Почему Бог должен создавать излишества?
Все эти аспекты естественного порядка могут быть объяснены на основе теории Пэйли. «Происхождение видов» пытается аргументировать, почему идея «естественного отбора» является лучшим объяснением того, как происходила эволюция видов. Задачей Дарвина было развить объяснение, которое должно рассматривать эти четыре наблюдения более удовлетворительным образом, чем альтернативы, которые тогда имелись в наличии. Движущей силой этой рефлексии было убеждение, что морфологические и географические явления могут быть убедительно рассмотрены с применением единой теории естественного отбора.
Важно отметить, что для самого Дарвина было совершенно очевидно, что его объяснение биологического свидетельства было не единственным, которое можно было представить. Он, однако, полагал, что оно обладает большей объяснительной силой, чем конкурирующие, такие как доктрина индивидуального творения. «Свет указал на некоторые факты, которые делают теорию специального творения предельно туманной»[40].
Теория Дарвина имела много слабостей и пробелов. Например, она требовала, чтобы видообразование имело место до сих пор; но свидетельства этого отсутствовали. Дарвин не мог объяснить, как природа «запоминает» изменения, чтобы передать их будущим поколениям. Тем не менее, Дарвин был убежден, что это трудности, которые могут быть терпимы в рассмотрении ясного объяснительного превосходства его подхода. Хотя Дарвин и не был убежден, что адекватно решил все проблемы, которые требовали разрешения, и был полностью осведомлен о том, что он не мог доказать своей теории в том наивном смысле, который находим в популярных работах Докинза — но, тем не менее, он был уверен, что его объяснение является лучшим из доступных: «Множество трудностей встретится читателю. Некоторые из них являются настолько убийственными, что до сего дня я не могу размышлять о них без содрогания...»[41].
Дарвин утверждает, что «большая картина» объяснения может быть предложена и принята без окончательного доказательства. В самом деле, можно указать, что природа исторического процесса такова, что прямая верификация невозможна; мы вынуждены апеллировать к выводам. Это не делает ошибочным этот подход в отношении научного объяснения. Это просто означает, что уровень и надежность объяснения определена предметом рассмотрения. Это одна из фундаментальных тем научного богословия: онтология определяет эпистемологию. Образ вещей определяет то, как именно они могут быть познаны и насколько хорошо они могут быть познаны. Докинз, кажется, применяет совершенно непригодный критерий надежности для вопросов «большой картины». Но какой же критерий может быть предложен, чтобы определить, что является «наилучшим» объяснением? Харман замечает, что «такое суждение будет основано на рассмотрении суждений, какая гипотеза проще, какая наиболее правдоподобна, какая больше объясняет, какая пригодна для данного случая и т.д.»[42]. Это не означает, что она должна быть признана. Заметим, что критерии, представленные здесь, могут противоречить друг другу[43]. Расширение теории для того, чтобы она была способна объяснить больше, обычно вовлекает дополнительные гипотезы, которые делают теорию менее простой. Далее, как акцентирует Ненси Картрайт, часто существует обратное отношение между простотой теории и ее способностью представления мира[44]. Тщательная проверка развития научной теории делает весьма трудным вывод, определяют ли общепринятые критерии то, какое объяснение «лучшее». Простой факт заключается в том, что «лучшее объяснение» является существенно прагматическим понятием[45].
Христианские апологеты утверждают, что «лучшее объяснение» мира — то, которое говорит о нем как о действии Бога Творца. Они склонны занимать позиции, которые можно разделить на две группы: «Бог промежутков» и «большая картина». Первый чаще всего находит отражение в популярной литературе, когда утверждается, что наука неспособна предложить полное рассмотрение мира. Существуют бреши в нашем понимании. Утверждается, что недостатки в объяснении могут быть объяснены посредством апелляции к Богу. Я предложил этот карикатурный подход главным образом потому, что я убежден в его недостатках, почему я и не защищаю его. Он является весьма уязвимым — большей частью вследствие непрекращающегося прогресса науки, имеющего тенденцию к заполнению брешей. «Естественное богословие» Уильяма Пэйли (1802) является характерным примером такого подхода и со всей очевидностью уязвимо, даже если некоторые из его критиков и указывали, что подобный подход можно спасти. Джеймс Мур показал в своем массивном и определенном христианском ответе Дарвину, что было много тех, кто верил, что явные недостатки рассмотрения Пэйли биологической жизни (и, что более примечательно, понятия «совершенной приспособленности») были в действительности исправлены дарвиновским понятием естественного отбора[46].Что еще более важно, некоторые авторы отказались от акцента Пэйли на специфической адаптации (используя термин Дарвина, неизвестный Пэйли) и предпочли сфокусировать внимание на том факте, что эволюция руководствуется совершенно определенными законами — очевидное применение к биологии общего подхода, развитого в средневековье Аквинатом. То, что эволюция осуществляется на основе определенных принципов, само по себе было косвенным подтверждением божественного вмешательства в этот процесс.
Но все же существует и вторая альтернатива, которая, я полагаю, гораздо более интересна. Она построена на точке зрения, которую мы находим у многих авторов XX столетия — таких как Альберт Эйнштейн и Людвиг Виттгенштейн. Понятность вселенной сама по себе требует объяснения. Это уже не брешь в нашем понимании мира, но сама всеохватность понимания, которая требует объяснения. Этот подход является, по моему мнению, гораздо более предпочтительным. Он избегает очевидно фатальной проблемы исторической эрозии: что не может быть объяснено сегодня, может быть объяснено завтра. Но причины, по которым я предпочитаю эту позицию, не являются чисто прагматическими: они укоренены в убеждении, что вера в Бога обладает объясняющей жизненностью. «Я верю в христианство», писал К.С. Льюис, «как я верю, что солнце взошло, не только потому, что вижу это, но потому, что я вижу и все остальное»[47]. В заключении своего эссе «Является ли богословие поэзией?» этими словами Льюис высветил одну из многих трудностей, связанных с научным мировоззрением: оно было вынуждено предполагать эти выводы.
Упорядоченность мира, столь фундаментальное утверждение самого научного метода, также требует объяснения[48]. Для Льюиса христианская вера предлагала освещение мира, допускающее его рассмотрение под определенным углом зрения и открывающее таким образом пути исследования и проверки того, насколько вера согласуется с реальностью. В этом подходе в человеческом понимании реальности нет брешей, указывающих на существование Бога; но есть дыхание человеческого понимания этой реальности, которая сама требует объяснения на более глубоком уровне. Возможно, ничто не может быть доказано с определенностью, но это вряд ли остановит нас в поиске того, что может быть наилучшим объяснением — и продолжая искать, однажды мы его найдем. И не является ли это в действительности верой? Поиск наилучшего, будь то в терминах истины, красоты или руководства?
Богословие как вирус разума?
Как мы отметили в предшествующем разделе, Докинз некорректно полагает, что религиозная вера является «слепым доверием», которое отвергает принятие во внимание доказательств. При рассмотрении аксиоматического утверждения Докинза о корректности атеистического мировоззрения следует очевидный вопрос: «Почему так много людей верит в Бога, когда не существует Бога, чтобы верить в Него? Ответ Докинза — понятие «Бог-мем», вирусоподобный культурный репликатор, имеющий способность передавать себя от одного человеческого ума к другому в процессе, похожем на патологическую инфекцию[49]. Как гены распространяют себя посредством передачи от тела к телу через семя или яйцеклетку, так же и мемы распространяют себя посредством передачи от мозга к мозгу в процессе, который, в широком смысле термина, может быть назван подражанием.
Когда Докинз говорит о культурной имитации или репликации, в качестве примеров он приводит тона, идеи, крылатые выражения, моду, аспекты архитектуры, песни, а также веру в Бога.
«Бог-мем» действует особенно хорошо, поскольку он имеет «наивысший знак живучести или заразительной силы в окружающей среде, создаваемой человеческой культурой»[50]. Люди не верят в Бога, потому что долго и тщательно размышляли над этим вопросом; они верят в него, потому что они были инфицированы сильным мемом. (Эта идея должна позднее развиться в представление об образе Бога как о вирусе). В обоих случаях умысел и результат — низвержение интеллектуальной законности веры в Бога. «Бог-мем» или «Бог-вирус» есть просто проблема инфицированных людей.
Многие критики Докинза возражают, конечно, что совершенно то же самое может быть сказано об истинности мема атеиста. Однако Докинз не рассматривает распространение атеизма на основе меметического подхода — главным образом вследствие принятия своего ключевого положения, что атеизм является научно корректным, и, таким образом, не требует объяснения. Фактически это верование, и поэтому оно требует подобного объяснения, как и вера в Бога. Модель Докинза в действительности требует признания того, что и атеизм, и вера в Бога являются меметическими эффектами. Они являются, следовательно, в равной степени достоверными или в равной степени ошибочными.
Проблема с этим подходом совершенно очевидна. Если все идеи являются мемами или следствиями мемов[51], то Докинз находится в решительно неудобном положении, поскольку вынужден будет принять, что его собственные идеи должны также быть признаны следствиями мемов. Тогда научные идеи должны стать просто другим, воспроизводимым в рамках человеческого разума видом мемов. Это не соответствует целям Докинза, и он исключает понятие оригинальным образом: «Научные идеи, подобно мемам, являются предметом естественного отбора, и могут выглядеть излишне вирусоподобно. Но селективные силы, которые внимательно рассматривают научные идеи, не являются произвольными или капризными. Они точны, действуют в рамках честных правил и не способствуют узкому эгоистичному поведению»[52].
Это представляет собой пример безуспешной защиты, в которой Докинз делает напрасную попытку избежать капкана собственной аргументации. Любой, кто знаком с интеллектуальной историей, быстро поймает его на этом. Любая догма является ложной, кроме моей. Мои идеи являются исключением из общего правила, по которому я идентифицирую другие идеи, которое позволяют мне объяснить, почему я отбрасываю их, оставаясь в своей собственной области.
Но почему согласие с научными критериями позволяет определить, является ли мем «благим» или «полезным»? При обычном прочтении «благо» или «полезность» мема должны проявляться в том, что он сопровождается гармонией, придает жизни какой-либо смысл или увеличивает ожидания от нее. Это должно быть более естественным и очевидным критерием для «благости» мема. Но при дальнейшем рассмотрении истина уходит от нас. Не существует никакого «естественного» критерия, который можно было бы привлечь. Мы решили, нравится это или нет, и затем отметили мем соответствующим образом. Если вам нравится религия — это «хороший» мем, если нет — «плохой». В результате Докинз занимается лишь построением порочного круга, отражающего его собственную субъективную систему ценностей.
Мы рассмотрим идею мемов более детально позднее, когда вернемся к обсуждению полезности этой идеи в объяснении культурной и интеллектуальной эволюции. Однако на этой стадии важно отметить некоторые основные трудности с самой концепцией мемов, а также с ее применимостью к вере в Бога или человеческой культуре вообще.
Первая проблема «универсального дарвинизма» Докинза заключается в том, что он недостаточно обоснован. В своем предисловии к работе Сьюзан Блэкмор «Машина мемов» (1999) Докинз указывает на трудности, которые создает мем, серьезно принятый в рамках научного сообщества[53].
Другое возражение заключается в том, что мы не знаем, из чего состоят мемы или где они расположены. Мемы не были найдены Уотсоном или Криком; они отсутствовали у Менделя. В то время как гены находят свое точное местоположение в хромосомах, мемы, главным образом, существуют в мозгах, и мы имеем еще меньшую возможность видеть их, чем видеть ген (хотя нейробиолог Хуан Делиус описал в своей гипотезе, на что похожи мемы).
Разговор Докинза о мемах часто выглядит подобно разговору верующего о Боге — невидимый, непроверяемый постулат, который помогает объяснить некоторые вещи в отношении опыта, но, в конечном счете, лежит вне рамок эмпирического исследования. Довольно трудно понять точно, что означает указание Докинза на то, что «нейробиолог Хуан Делиус изобразил свое представление того, на что могут быть похожи мемы». Большинство из нас видели бесчисленные попытки изобразить Бога, посещая музеи и выставки. Два примера приходят мне на память: знаменитая фреска Микеланджело из Сикстинской Капеллы (1511-1512) Бога, создающего Адама, или известная акварель Уильяма Блейка «Древние дни» (1794)[54]. Итак, является ли предположение Докинза о возможности изображения мемов хоть сколько-нибудь верифицируемой концепцией? Становится ли оно научно правдоподобным? Предположение Делиуса, что мем имеет единую наблюдаемую структуру «как созвездие активированных нейронных синапсов», является чисто гипотетическим и должно быть подвергнуто строгому эмпирическому исследованию[55]. Одно дело спекулировать о том, на что это может быть похоже; другое дело, существует ли это вообще. Резкий контраст с генами будет очевиден. Гены могут быть «видимы» и их передача изучена посредством строгих эмпирических наблюдений. Что начиналось как гипотетические конструкции, выведенные из систематических экспериментов и наблюдений, закончилось самим наблюдением. Ген первоначально рассматривался как теоретическая необходимость, поскольку не было механизма, который мог бы быть объяснен соответствующими наблюдениями, пока ген не был принят как реальная сущность при рассмотрении всего массива свидетельств. Но что можно сказать о мемах? Лишь то, что они являются, прежде всего, гипотетическими конструкциями, выведенными из наблюдения, но не наблюдаемыми самими по себе и более-менее бесполезными на уровне объяснения. Это делает их строгое исследование весьма проблематичным, а их плодотворное применение — чем-то невероятным.
А что можно сказать о механизме, посредством которого передаются мемы? Одним из наиболее важных следствий работы Крика и Уотсона о структуре ДНК было то, что был открыт способ понимания механизма репликации. Так какой физический механизм может быть предложен в случае мема? Как мем передает меметический эффект? Или, поставим вопрос более конкретно: как нам начать ставить эксперименты, чтобы идентифицировать и установить структуру мемов, а также исследовать их отношение к предполагаемым меметическим эффектам?
Аргумент Докинза в пользу существования и функции мемов основан на предполагаемой аналогии между биологической и культурной эволюцией. Аргумент может быть представлен следующим образом: биологическая эволюция требует репликатора; теперь известно, что он действительно существует — ген. Поэтому культурная эволюция по аналогии также требует репликатора, которым и является гипотетический мем.
Смелое решение. Но правильно ли оно? Действительно ли здесь работает аналогия? И каково именно то наблюдательное свидетельство мемов, которое требуется, чтобы мы приняли эту гипотетическую концепцию как необходимое и полезное средство объяснения культурного развития?
Часто демонстрировалось, что аргументация по аналогии является существенным элементом научного рассуждения[56]. Восприятие аналогии между А и Б часто является отправной точкой для новой линии поиска, открывающей еще не исследованные рубежи — хотя подобное восприятие и приводило часто к научно бесплодным результатам, включая идеи «теплорода» и «флогистона». Как указывает Марио Бандж, аналогиями отмечена дорога к ошибкам в науках[57]. Итак, является ли представленная аналогия между геном и мемом, во-первых, реальной, а во-вторых, полезной? Вопрос о том, каковы пределы аргументации по аналогии в естественных науках, становится особенно важным в случае эволюционной теории. Имплицитное утверждение заключается в том, что достаточно развитые методы неодарвинизма могут объяснить и передачу генов, и передачу культуры как аналогичные процессы. Пределы аргументации по аналогии являются хорошо известными для любого историка науки — вспомним, например, бесплодный поиск «эфира», проистекавший из аналогии между светом и звуком.
Более существенно то, что дарвинистская парадигма оказывается неспособной иметь дело с культурным или интеллектуальным развитием — вопрос, к которому мы вернемся позднее. Хотя это мое суждение после 25 лет исследований в области развития интеллектуальной и культурной истории, я могу сказать, что на начальной стадии моей карьеры я полагал, что меметический подход имеет реальный потенциал как объяснительная модель исторического богословия вообще и вопросов доктринального развития в частности.
Мой собственный интерес к интеллектуальной истории развился примерно в то же время, когда Докинз впервые предложил теорию мемов. Когда я впервые столкнулся с идеей мемов в 1977 году, я нашел ее восхитительной. Здесь лежало нечто, что было потенциально открыто строгому, основанному на доказательствах исследованию, предлагавшему новые возможности для изучения интеллектуального и культурного развития. Почему я был столь оптимистичен в отношении этой идеи? Я начал интересоваться одной из проблем, которой я занимаюсь на протяжении всей жизни: историей идей. Я интересовался тем, как религиозные идеи развиваются на протяжении времени, а также факторами, приводящими к их развитию, модификации, принятию или отвержению, и, по крайней мере, в некоторых случаях — к их постепенному упадку.
Я полагал в это время, что мемы должны позволить мне развить строгие и надежные модели интеллектуального и культурного развития, твердо основанные на наблюдательном базисе. По мере развития моего исследования я пришел к серьезным трудностям в практически каждой области интеллектуальной деятельности, которую я исследовал. Проблема была в том, что мемы в действительности не объясняли ничего. Это было интересное излишество, которое ничего не добавляло к предсказательной и аналитической силе других моделей.
Вторая трудность заключалась в том, что сам дарвинизм оказался весьма плохо приспособлен к рассмотрению развития культуры или общей формы интеллектуальной истории. Когда я исследовал возникновение атеизма в течение его «золотого века» (1789-1989)[58], я был поражен целеустремленностью современного обращения к старым писателям-атеистам, таким как Ксенофан или Лукреций. Эти идеи умышленно переоценивались. Их возрождения не произошло; это было сделано для того, чтобы достичь специфической цели. Процесс был строго телеологическим, направленным к конкретной цели и преднамеренным, что исключает дарвиновская ортодоксия эволюционного процесса. Подобное можно было видеть в возникновении Возрождения. Критический момент оценки — происхождение, развитие и передача гуманизма Возрождения и современного атеизма — хотя и был предметом важных связей с событиями исторического процесса — но, тем не менее, не был случайным, преднамеренным и спланированным. Если дарвинизм говорит о копировании инструкций (генотипа), то ламаркизм о копировании продукта (фенотипа). К рассмотрению этого вопроса мы вернемся в следующем эссе, поскольку он требует детального обсуждения.
Пример развития, которые я нахожу в истории Возрождения — и, следует добавить, в большинстве других интеллектуальных и культурных явлений, которые я изучал — является, в терминологии Докинза, смешением мемов и очевидным примером интеллектуальной причинности, которая вынуждает использовать скорее ламаркистское, нежели неодарвинистское понимание эволюционных процессов. Самонадеянно, конечно, полагать, что эволюционная биология имеет какое-либо отношение к развитию культуры или к истории идей. Использование таких терминов, как «дарвинисткое» или «ламаркистское», к описанию культурного развития может просто ввести в заблуждение, подразумевая аналогию, которой, за исключением течения времени и наблюдения изменений, в действительности не существует.
За четверть века «наука» о мемах не смогла породить продуктивную исследовательскую программу в мэйнстриме когнитивных наук, социологии и интеллектуальной истории, да и на сегодня она остается спекулятивной и эмпирически неопределенной. Приведу суждение Симона Конвея Морриса по этому вопросу: мемам, по видимому, нет места в серьезной научной рефлексии[59].
Мемы тривиальны и бесполезны при рассмотрении ментальных состояний. В сколь угодно широком контексте они безнадежно, если не курьезно упрощены. Фокус с мемами не только не открывает странной ошибки мысли, но, как заметил Энтони О'Хир, если мемы действительно существуют, они должны в конечном счете отрицать реальность рефлективной мысли.
Разочарованный, Докинз развил свою концепцию мемов в другом направлении: вирус разума. Мем, говорит нам Докинз, может передаваться «подобно вирусам эпидемии»[60]. В случае мема ключом к гипотезе «Бога как вируса» является репликация. Чтобы вирус был эффективным, он должен обладать двумя качествами: способностью воспроизводить точно информацию и способностью подчиняться инструкциям, которые закодированы в воспроизводимой им информации[61]. Более того, вера в Бога рассматривалась как злобная инфекция, загрязняющая чистые умы. И снова вся идея покоится на камне отсутствия экспериментального доказательства и порочном круге в рассуждении.
Бессмысленно говорить об одном виде вируса как «хорошем», а о другом как о «плохом». В случае отношения паразит-хозяин это может быть лишь примером того, как работает дарвиновская эволюция. Она не является ни хорошей, ни плохой. Она просто действует. Если идеи сравниваются с вирусами, тогда они просто не могут быть описаны как «хорошие» или «плохие» — или даже «правильные» или «ложные». Это должно привести к заключению, что все идеи должны оцениваться полностью на основе успеха в их воспроизводстве и рассеивании — другими словами, их успехе в распространении и их степени выживания. И еще, если все идеи являются вирусами, это свидетельствует о невозможности провести разделение на научном основании между атеизмом и верой в Бога. Механизм, предложенный для их передачи, не позволяет оценить их интеллектуальные или моральные достоинства. Эти достоинства должны быть определены на других основаниях, которые с необходимостью выходят за пределы научного метода.
Но что можно сказать об экспериментальных свидетельствах в пользу этих гипотетических «вирусов разума»? В реальном мире вирусы не определяются исключительно по симптомам; они могут быть обнаружены, подвергнуты строгому эмпирическому исследованию, да и их генетическая структура может быть определена. В противоположность этому «вирус разума» является гипотетическим; опирающимся на спорный аргумент по аналогии, а не на прямое наблюдение и является полностью концептуально произвольным, исходя из того базиса поведения, который предлагает для него Докинз. Можем ли мы наблюдать эти вирусы? Какова их структура? Их «генетический код»? Их расположение в теле человека? И, что более важно, учитывая интерес Докинза к их распространению, какова форма их передачи?
Мы можем подытожить проблемы следующим образом.
1. Реальные вирусы могут быть видимы — например, с использованием крио-электронной микроскопии. Культурные или религиозные вирусы Докинза являются простыми гипотезами. Не существует никакого наблюдательного свидетельства их существования.
2. Не существует экспериментального свидетельства того, что идеи являются вирусами. Может казаться, что идеи «ведут себя» в определенных ситуациях так, как если бы они были вирусами. Но существует огромная пропасть между аналогией и реальностью, и, как показывает история науки, большинство ложных следов в науке связаны с аналогиями, которые ошибочно принимались за реальность.
3. Слоган «Бог как вирус» — это краткое выражение фразы «примеры диффузии религиозных идей выглядят аналогично примерам распространения определенных болезней». К несчастью, Докинз не представляет какой-либо доказательной базы своей аргументации и предпочитает строить догадки о том, как влияет такой гипотетический вирус на разум человека. Но он должен рассмотреть и ту точку зрения, в рамках которой атеизм также служит примером «вируса разума», субъекта подобных ограничений и критики, подобного «Бог-вирусу». Однако Докинз убежден, что атеизм является научно доказанным фактом, и не видит очевидной ошибочности своего мышления в этом пункте. Более того, Докинз впадает в порочный круг аргументации: вера других людей вызвана вирусами; моя является результатом холодного, беспристрастного, объективного рассуждения.
Метафора «заразной болезни мысли» была тщательно развита Аароном Линчем[62], сделавшим критически важные замечания относительно способа, которым распространяются идеи безотносительно к их достоверности или «благости». Как полагает Линч, «Термин "заразная болезнь мысли" нейтрален по отношению к истинности или ложности, а также к хорошему или плохому. Ложные верования могут распространяться как заразные болезни мысли, но точно также могут распространяться истинные верования. Подобным образом, вредные идеи могут распространяться как заразные болезни мысли, но точно также могут распространяться прекрасные идеи... Анализ заразных болезней мысли озабочен, прежде всего, механизмом, посредством которого идеи распространяются по популяции. Является ли идея истинной или ложной, полезной или вредной — оценивается главным образом по результатам, которые она оказывают на скорость передачи»[63].
Концепция мемов или «вирусов разума» Докинза не помогает нам подтвердить или опровергнуть идеи, понять или объяснить примеры культурного развития. Как человек, занимающийся, главным образом, развитием культуры, могу свидетельствовать, что вполне можно постулировать изучение феномена культурной эволюции, совершенно не имея представления о ее механизме. «Все, что нам необходимо сделать, так это признать, что культурное наследование существует, и его пути являются отличными от генетических»[64].
Обедняет ли богословие наше представление о Вселенной?
Одна из постоянных жалоб Докинза на религию заключается в том, что религия является эстетически ущербной. Ее взгляд на Вселенную ограничен, беден и ниже той реальности, которая известна науке[65]. Вселенная поистине таинственна, величественна, прекрасна и внушает благоговение. Виды представлений о Вселенной, которые традиционно имеют религиозные люди — слабы, жалки и болезненны в сравнении с тем, чем Вселенная является в действительности. Вселенная, представленная организованными религиями — это убогая маленькая средневековая Вселенная, к тому же предельно ограниченная.
Логика этой серии утверждений такова, что ей довольно трудно следовать, а ее фактологический базис является поразительно пренебрежительным. «Нюрнбергские хроники» (1493) предлагают нам прекрасную иллюстрацию доминирующих идей этого времени. «Средневековый» взгляд на Вселенную, возможно, в самом деле, более ограничен, чем современные концепции, но он не имеет отношения к религии ни как причина, ни как следствие. Он отражает науку того времени, главным образом, основанную на труде Аристотеля «О небе». Если Вселенная религиозного человека в средние века была и в самом деле «убогой», то это было следствием того, что средневековые люди доверяли лучшим космологам своего времени говорить о том, как выглядит Вселенная. Они были уверены, что это научная истина, и принимали ее. Они были достаточно наивны, утверждая, что написанное в их учебниках — истина. Именно это доверие к науке и ученым, которое столь некритично рекомендует Докинз, привело их к разработке богословия вокруг данного взгляда на Вселенную. Они не знали о таких вещах, как «теория радикальных изменений в науке», которая сделала людей XXI века более внимательными по отношению к слишком быстрому принятию последних научных теорий, и гораздо более критичными к тем, кто основывает на них мировоззрение.
Следствием необоснованной критики Докинза является то, что религиозный взгляд на реальность является ущербным и бедным в сравнении с его собственным. Несомненно, что этот подход является важным фактором в порождении и утверждении его атеизма. Все же анализ Докинзом этого вопроса разочаровывающее скуден и неубедителен. Одна из общих тем большинства религиозных сочинений в английской литературе с 1550 по 1850 год заключается в том, что научное исследование величия и славы природы ведет к большему пониманию славы Божией[66]. Хотя я не вижу причин приписывать этот основной мотив авторам, но в их интересах было преувеличивать красоту и удивительность тварного порядка — так, чтобы иметь, соответственно, еще более величественное представление о Боге. Само пренебрежение историческим свидетельством, которое Докинз мог бы привести в поддержку своего экстравагантного развенчания религиозного видения реальности, удивляет не меньше, чем наблюдение, что наше понимание огромности и сложности Вселенной увеличилось в последние годы.
Христианский подход к природе выделяет три пути, благодаря которым приходит чувство благоговейного трепета перед наблюдаемым:
1. Непосредственное чувство удивления красотой природы. Оно возникает мгновенно. Это «замирание сердца», которое Уильям Уордсворт описал при видении радуги в небе, встречается до какой-либо сознательной теоретической рефлексии. На языке психологии это скорее восприятие, нежели познание. Я не вижу какой-либо причины полагать, что вера в Бога уменьшает это ощущение чуда. Аргумент Докинза в этом пункте является настолько неопределенным и настолько предельно недостоверным, что я боюсь, что я не понимаю этого.
2. Производное чувство удивления математическим или теоретическим представлением реальности, которое возникает благодаря ей же. Докинз также знает и одобряет этот второй источник «благоговейного удивления», но, кажется, полагает, что религиозные люди «веселятся, пока есть тайна, и жульничают, когда это объясняется»[67]. Это совершенно некорректно. Суть проблемы в том, является ли чисто мимикрический подход к рефлексии адекватно применимым к реальному миру. Если теория понимается просто как мимикрия, то мы не способны объяснить чувство удивления, которое вызывается самой природой[68].
3. Далее, производное чувство удивления тем, на что указывает естественный мир. Одна из центральных тем христианского богословия заключается в том, что творение несет на себе отпечаток Творца. «Небеса поведают славу Божию» (Пс. 19.1). Для христиан созерцание красоты творения — это признак славы Божией, и поэтому такой опыт особенно желанен. Докинз исключает какую-либо ссылку на трансцендентное из естественного мира. Он полагает, что религиозный подход к миру приводит к утрате чего-то важного[69]. Прочитав «Расплетая радугу» несколько раз, я все же не понял, что это за утрата. Христианское прочтение мира не отрицает ничего, о чем говорят нам науки, за исключением натуралистской догмы, что реальность ограничена тем, что может быть познано посредством естественных наук. Встреча христианина с естественным миром, предлагая новую мотивацию к исследованию природы, добавляет богатство, которое я нахожу совершенно отсутствующим в рассмотрении Докинза. Еще Жан Кальвин (1509-1564) писал о том, как он завидовал тем, кто изучал физиологию и астрономию, потому что им доступно прямое видение чудес творения Божия. Невидимый и нематериальный Бог, указывал он, мог быть познан через исследование чудес природы.
Наиболее рефлективное представление «тайны» у Докинза находится в книге «Расплетая радугу», которая посвящена исследованию места удивления в понимании наук. Несмотря на утверждаемую Докинзом враждебность к религии, работа признает важность чувства благоговения и удивления на пути человека к пониманию реальности. Докинз называет поэта Уильяма Блейка мистиком-обскурантом, который показывает, почему религиозные подходы к тайне являются бесплодными. Однако, Докинз обнаруживает множество ошибок в понятном, но ошибочном стремлении к наслаждению тайной: «Импульсы трепета, почтения и удивления, которые привели Блейка к мистицизму ... являются совершенно теми же, что приводят других к науке. Наша интерпретация отлична, но восхищение то же самое. Мистику достаточно согреться чудом и веселиться в тайне, которую мы не "способны" понять. Ученый чувствует то же самое удивление, но не успокаивается; признает тайну настолько глубокой, что добавляет: "Но мы поработаем над этим"» [70].
Так не существует ли проблемы со словом или категорией «тайны»? Вопрос в том, должны ли мы избрать борьбу с ней, или принять ленивый и самодовольный взгляд, что это нечто запредельное?
Христианское богословие было хорошо осведомлено о своих пределах и стремилось избегать слишком самоуверенных утверждений перед лицом тайны. Многие школы мысли настаивали, что вера является предельным стремлением, доверием и убеждением, направленным от нас к своей предельной основе и цели — чем-то, что никогда не может быть полностью или адекватно понято или представлено, хотя надежность его является неоспоримой. Признание интеллектуальных пределов не подразумевает концептуального отчаяния или отказа от богословской рефлексии. Христианское богословие, таким образом, никогда не рассматривало себя как объяснение, полностью сводимое к молчанию перед лицом божественной тайны. Это не запрет на интеллектуальную борьбу с разрушительными или причиняющими ущерб вере «тайнами». Как заметил англиканский богослов XIX века Чарльз Гор: «Человеческий язык никогда не сможет адекватно выразить божественную реальность. Постоянная тенденция извиняться за человеческую речь, большой элемент агностицизма, страшное ощущение безмерных глубин за тем малым, что известно, всегда присутствует в сознании богословов, которые знают, что они пытаются говорить или выразить мысль о Боге. "Мы видим", говорит св. Павел, "в зеркале, гадательно"; "мы знаем отчасти". "Мы вынуждены", — сожалеет св. Иларий, — "пытаться выразить то, что недоступно, взбираться туда, куда мы не можем взойти, говорить о том, что мы не можем выразить; вместо простого благоговения веры, мы вынуждены вверять глубокие истины религии опасности человеческого выражения"»[71].
Правильное определение христианского богословия есть «принятие рационального беспокойства в отношении тайны», признание того, что существует множество пределов того, что может быть достигнуто, но в то же время убеждение, что это интеллектуальное понимание является и ценным, и необходимым. Это просто означает, что мы стоим перед чем-то настолько великим, что не можем полностью понять это, а потому лучшее, что мы можем делать — использовать аналитические и описательные инструменты, которые есть в нашем распоряжении.
Тайна есть нечто, что мы никогда не сможем полностью представить, даже если мы верим, что мы руководимы — нашими ли собственными усилиями, благодатью ли — к тому, чтобы получить некоторое понимание этих глубин. Тайна не подразумевает иррациональности; она подразумевает огромность, с неизбежными следствиями для ограниченного интеллекта человека. Для христианского богословия тайна есть нечто, что реально, истинно и обладает своей собственной рациональностью — хотя человеческий разум и не способен понять ее полностью.
Несколько лет назад я начал изучать японский. Я продвинулся не очень далеко. Язык использует две системы написания, сложные серии иероглифов, которые я нахожу предельно трудными для изучения, словарь, который имеет мало отношения к любому из языков, которые я знал, и синтаксис, который кажется совершенно нелогичным для моего западного образа мышления. В общем, я не смог понять его. Но моя неудача в понимании японского языка представляет только мою ошибку. Те, кто знает язык, уверяют меня, что он является рациональным и понятным; просто я не смог перестроить свой разум. И это не простой вопрос в области богословия. Любая научная попытка заниматься необъятностью природы — например, поразительно огромной временной шкалой дарвиновской эволюции или возникновением космоса — ставит перед нами ту же проблему. Идея «тайны» является полностью соответствующей естественным наукам. Докинз сам знает это, как видно из его иронических комментариев на постмодернистскую критику наук: «Современная физика учит нас, что существует больше истины, чем прямо перед глазами; или чем встречает слишком ограниченный человеческий разум... Перед лицом этих глубоких и величайших тайн низкопробное интеллектуальное прыгание псевдо-философских позеров кажется не стоящим внимания»[72].
Моя позиция ясна. Никоим образом эта идея «тайны» не может быть приравнена к «иррациональности», разве что в том смысле, что она может противоречить интуиции и быть полностью вне нашего понимания. Тайна может лежать вне настоящей способности человеческого разума понять ее; но это не означает, что она противоречит разуму, как акцентирует Фома Аквинский. Человеческий разум ограничен в способности понять весь объем реальности — следовательно, мы должны делать то, что можем, в то же время признавая наши пределы понимания. Мы — не Бог, и поэтому то, что Джон Данн назвал «огромным весом божественной славы», нам было бы нелегко вынести.
Критика богословия Докинзом в этом пункте должна указывать на необходимость вновь подтвердить и утвердить аутентичность христианского естественного богословия — понимания мира, поразительного в своей красоте, удивительного по своей сложности и указующего на некую суть всего бытия. Мы вернемся к этому в дальнейшем, когда будем рассматривать вопросы, поднимаемые естественным богословием.
На основании анализа, предложенного в этом эссе, я полагаю, что вполне законно представить проект естественного богословия. Докинз поднимает множество важных вопросов, которые опираются на явно ошибочное понимание. Например, его концепция веры как «слепого доверия при отсутствии доказательств, даже если доказательства "в зубах"»[73] — совершенно несостоятельна, а также содержит ошибку в части признания роли вероятностных суждений в науке, в частности в рамках концепции «поиска наилучшего объяснения». Большая часть критики Докинза нацелена на соломенное чучело и проходит мимо фундаментальных основ научного богословия.
Справедливости ради следует отметить, что не все вопросы, поднимаемые Докинзом, основаны на ошибочном понимании или интерпретации. В частности, он поднимает две фундаментальных темы, которые должны быть рассмотрены научным богословием — отчасти вследствие публичности интеллектуальных стремлений, и отчасти потому, что сами вопросы являются действительно богословски важными. Взгляд на их стратегическое значение для проекта научного богословия рассматривается в последующих эссе этой книги.
1. Представленный Докинзом акцент в науке на «смелом и блестящем видении Вселенной как величественной, прекрасной и внушающей благоговение», очевидно, требует переоценки и новой концептуализации естественного богословия, избегающего богословских тупиков прошлого.
2. В какой степени рассмотрение «универсального дарвинизма» может способствовать развитию христианского богословия? Исследование этого вопроса имеет не только богословское значение; оно должно помочь ответить на вопрос, имеет ли дарвиновская парадигма то универсальное значение, которое привлекает в ней Докинза.
Соблюдая подобный порядок рассуждений, мы обратимся непосредственно к первому из этих вопросов: адекватно ли религиозное мировоззрение представляет красоту и удивление природой. Это классическая тема естественного богословия — тема, которую мы будем исследовать в последующих двух эссе.
[1] Alister E. McGrath, Dawkins' God: Genes, Memes and the Meaning of Life. Oxford: Blackwell, 2004.
[2] Michael Ruse, «Through a Glass, Darkly». American Scientist 91 (2003): 554-6.
[3] Интересно, что его недавней книге — «Сказка о предке» — заметно недостает антирелигиозного характера полемики предшествующих сочинений.
[4]Цит. по: Robert Fulford, «Richard Dawkins Talks Up Atheism with Messianic Zeal», National Post, November 25, 2003.
[5] Я опускаю дискуссию о ядре веры Докинза в то, будто религия зла, зловредна и черства; это моральное суждение, которое не вполне уместно в рамках этого исследования. Читатели могут познакомиться с ответом в моей книге «Бог Докинза».
[6] Richard Dawkins, The Selfish Gene, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 1989, 198.
[7] Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder. London: Penguin, 1998. Интереснуюоценкуэтогоподходаможнонайтивработе: Luke Davidson, «Fragilities of Scientism: Richard Dawkins and the Paranoid Idealization of Science». Science as Culture 9 (2000): 167-99.
[8] Особенно агрессивное представление этого подхода см.: PeterAtkins, «TheLimitlessPowerofScience». In Nature's Imagination: The Frontiers of Scientific Vision, edited by John Cornwell, 122-32. Oxford: Oxford University Press, 1995.
[9]Критикуэтихподходовможнонайтивследующихработах: Mary Midgley, Science as Salvation: A Modern Myth and its Meaning. London: Routledge, 1992; Science and Poetry. London: Routledge, 2001; Evolution as a Religion: Strange Hopes and Stranger Fears, 2nd edn. London: Routledge, 2002.
[10] M. R. Bennett, and P. M. S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience. Oxford: Blackwell, 2003, 372-6.
[11] Ernst Mayr, What Evolution Is. New York: Basic Books, 2001, 9.
[12]См. напр. фундаментальныйисторическийанализ David C. Lindberg and Ronald L. Numbers, God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science. Berkeley: University of California Press, 1986. Ни один историк науки не будет доверять утверждению Майра. С социологической точки зрения интересен комментарий Стива Брюса (Steve Bruce, God Is Dead: Secularization in the West. Oxford: Blackwell, 2002, 117): «Ни один современный социолог религии не утверждает, что христианство было полностью подорвано наукой... Величайший урон религии был нанесен не конкурирующими секулярными идеями, но обычным релятивизмом, который предполагает, что все идеологии истинны в равной степени (и, следовательно, в равной степени ложны)».
[13] Richard Dawkins, River out of Eden: A Darwinian View of Life. London: Phoenix, 1995, 133.
[14]Отличноеисследованиеэтоговопросаможнонайтивработе Michael Ruse, Darwin and Design: Does Evolution Have a Purpose? Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
[15] Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design. London: Longman, 1986, 43.
[16] Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable. London: Viking, 1996, 64.
[17] Climbing Mount Improbable, 126-79.
[18] Индекс, конечно, не охватывает все; см., например, краткую (и несколько туманную) дискуссию о Боге, находящуюся в The Blind Watchmaker, 141. Ноэтотпропускинтересенсампосебе.
[19] Stephen Jay Gould, «Impeaching a Self-Appointed Judge». Scientific American 267, No. 1 (1992): 118-21.
[20]См. Alister E. McGrath, A Scientific Theology 1: Nature. London: Continuum, 2001, 81-133.
[21] Richard P. Feynman, What Do You Care What Other People Think? London: Unwin Hyman, 1989; The Meaning of It All. London: Penguin, 1999.
[22] The Selfish Gene, 198.
[23] TheSelfish Gene, 330 (этот пассаж добавлен во втором издании).
[24] Richard Dawkins, A Devil's Chaplain. London:Weidenfeld&Nicolson, 2003, 139.
[25]Дляболеедетальногорассмотрениясм. Robert D. Sider, «Credo Quia Absurdum?» Classical World 73 (1978): 417-19.
[26] Tertullian, de paenitentia v, 4. «Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile».
[27] James Moffat, «Tertullian and Aristotle». Journal of Theological Studies 17 (1916): 170-1.
[28]См.: Robert D. Sider, Ancient Rhetoric and the Art of Tertullian. Oxford: Oxford University Press, 1971, 56-9.
[29] Tertullian, de poenitentia I, 2. «Quippe res dei ratio quia deus omnium conditor nihil non ratione providit disposuit ordinavit, nihil enim non ratione tractari intellegique voluit».
[30] W. H. Griffith-Thomas, The Principles of Theology. London: Longmans, Green, 1930, xviii. Вера, таким образом, включает «уверенность в свидетельстве» и «несомненную верность»; она не «слепая, но разумная» (xviii-xix).
[31]Яимелввидуработыследующихавторов: Richard Swinburne, The Coherence of Theism. Oxford: Clarendon Press, 1977; Nicholas Wolterstorff, Reason within the Bounds of Religion. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1984; Alvin Plantinga, Warranted Christian Belief. Oxford: Oxford University Press, 2000.
[32] Elliott R. Sober, «Modus Darwin». Biology and Philosophy 14 (1999): 253-78.
[33] Richard Swinburne, The Resurrection of God Incarnate. Oxford: Clarendon Press, 2003.
[34] Timothy Shanahan, «Methodological and Contextual Factors in the Dawkins/ Gould Dispute over Evolutionary Progress». Studies in History and Philosophy of Science 31 (2001): 127-51.
[35] Gilbert Harman, «The Inference to the Best Explanation». Philosophical Review 74 (1965): 88-95. Недавнееисследованиеэтойважнойтемывфилософиинаукипредставленов: Peter Lipton, Inference to the Best Explanation. London: Routledge, 2004.
[36] Paul R. Thagard, «The Best Explanation: Criteria for Theory Choice». Journal of Philosophy 75 (1976): 76-92, quote at 77.
[37] Thagard, «The Best Explanation»,74.
[38]См. Michael Ruse, «Darwin's Debt to Philosophy: An Examination of the Influence of the Philosophical Ideas of John F. Herschel and William Whewell on the Development of Charles Darwin's Theory of Evolution». Studies in the History and Philosophy of Science 66 (1975): 159-81; Richard R. Yeo, «William Whewell's Philosophy of Knowledge and Its Reception». В William Whewell: A Composite Portrait, edited by Menachem Fisch and Simon Schaffer, 175-99. Oxford: Clarendon Press, 1991.
[39] S. A. Kleiner, «Problem Solving and Discovery in the Growth of Darwin's Theories of Evolution». Synthese 62 (1981): 119-62, especially 127-9.
[40] Charles Darwin, The Origin of Species. Harmondsworth: Penguin, 1968, 230.
[41] Darwin, The Origin of Species, 205.
[42] Harman, «Inference», 89. Теории могут быть описаны как пригодные для данного случая, если они разрабатываются для специфической и ограниченной цели объяснения известных явлений (иногда рассматриваются как «ретродукция»). Они контрастируют с предсказательными теориями, которые порождают новые предсказания, которые не содержатся в известных наблюдениях.
[43]Какуказывает Gerd Buchdahl, «History of Science and Criteria of Choice». In Minnesota Studies in the Philosophy of Science, edited by Roger H. Steuwer, 204-30. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970.
[44] Nancy Cartwright, How the Laws of Physics Lie. Oxford: Clarendon Press, 1983.
[45]Какполагает Bas van Fraassen, «The Pragmatics of Explanation». American Philosophical Quarterly 14 (1977): 143-50.
[46] James R. Moore, The Post-Darwinian Controversies: A Study of the Protestant Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and America, 1870-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
[47] C. S. Lewis, «Is Theology Poetry?» In C. S. Lewis: Essay Collection, 1-21. London: Collins, 2000, quote at 21.
[48] Эта точка зрения акцентирована физиком и богословом Джоном Полкинхорном. См.: John Polkinghorne, TheWay theWorld Is. London: SPCK, 1983; Science and Creation: The Search for Understanding. London: SPCK, 1988.
[49] The Selfish Gene, 192.
[50] The Selfish Gene, 193.
[51] John A. Ball, «Memes as Replicators». Ethology and Sociology 5 (1984): 145-61.
[52] A Devil's Chaplain, 145.
[53] A Devil's Chaplain, 124.
[54]Яиспользуюобеиллюстрациивсвоейкниге: Alister McGrath, Creation. London: SPCK, 2004.
[55] Juan D. Delius, «The Nature of Culture». In The Tinbergen Legacy, edited by M. S. Dawkins, T. R. Halliday, and R. Dawkins, 75-99. London: Chapman & Hall, 1991.
[56] Daniel Rothbart, «The Semantics of Metaphor and the Structure of Science». Philosophy of Science 51 (1984): 595-615.
[57] Bunge, Method, Model, and Matter. Dordrecht: D. Reidel, 1973, 125-6.
[58] See Alister E. McGrath, The Twilight of Atheism. New York: Doubleday, 2004.
[59] Simon Conway Morris, Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 324.
[60] A Devil's Chaplain, 121.
[61] A Devil's Chaplain, 135.
[62] Aaron Lynch, Thought Contagion: How Belief Spreads through Society. New York: Basic Books, 1996.
[63] Aaron Lynch, «An Introduction to the Evolutionary Epidemiology of Ideas». Biological Physicist 3, No. 2 (2003): 7-14.
[64] Stephen Shennan, Genes, Memes and Human History: Darwinian Archaeology and Cultural Evolution. London: Thames & Hudson, 2002, 63. Shennan cites the work of Luca Cavalli-Sforza and Marcus Feldman in support: Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.
[65] Richard Dawkins, «A Survival Machine». In The Third Culture, edited by John Brockman, 75-95. New York: Simon & Schuster, 1996.
[66] Отличным примером этого являются работы Джона Раскина. См. Michael Wheeler, Ruskin's God. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
[67] Dawkins, Unweaving the Rainbow, xiii. См. также его обширную дискуссию, касающуюся как традиционной религии, так и движения «Newage» на стр. 114-179.
[68]См. дискуссиювработе: Arthur C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace: A Philosophy of Art. Cambridge,MA: Harvard University Press, 1981, 1-32.
[69] Unweaving the Rainbow, xii.
[70] Unweaving the Rainbow, 17.
[71] Charles Gore,The Incarnation of the Son of God. London: JohnMurray, 1922,105-6.
[72] A Devil's Chaplain, 19.
[73] Richard Dawkins, The Selfish Gene, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 1989, 198.
