Марранская община — общество вины или общество стыда?
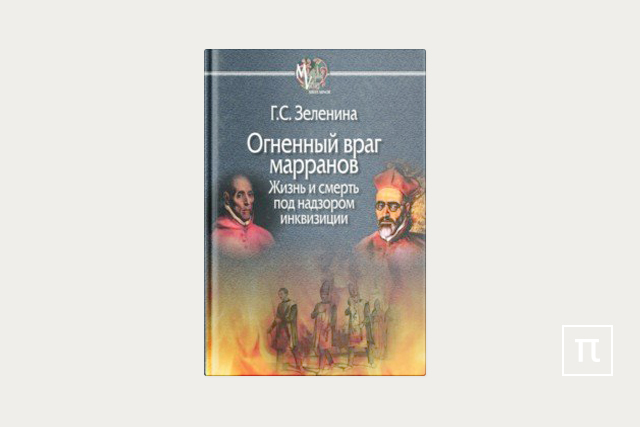
События
«Ни страха Божьего, ни стыда перед людьми»: марранская община — общество вины или общество стыда?
И грех, и смех
Если задаться вопросом: винопитие — это хорошо или дурно, и искать на него ответ в инквизиционных документах, выяснится, что винопитие — дурно, причем по-разному, в зависимости от того, кто говорит: обвинение или защита. В открывающих дело обвинениях и в закрывающих дело приговорах часто упоминается «благословение вина» [1 ]; свидетелей обвинения спрашивали, совершал ли обвиняемый кидуш, — это был один из признаков иудействования, который фигурировал в эдиктах веры, призывавших бдительных христиан обратить внимание на застольные практики своих соседей: «Или благословляют стол по еврейскому обычаю, или пьют вино касер, или совершают бараху, беря стакан вина в руку и произнося над ним определенные слова, а затем давая каждому присутствующему глотнуть» [2 ].
Если кидуш, субботнее ритуальное употребление вина, предписывалось еврейской традицией и, соответственно, осуждалось инквизицией как признак ереси, то регулярное и чрезмерное употребление вина, иными словами пьянство, вызывающее социальное неодобрение и, возможно, осмеяние, не будучи связано с ересью, инквизицией не запрещается — напротив, согласно мнению защиты, используется ею, толкает машину сыска.
В tachas, отводе свидетелей обвинения, защита старается аргументировать, почему их показаниям нельзя доверять: либо потому, что они враги обвиняемого, либо потому, что вообще люди ненадежные. Во втором случае зачастую упоминается пьянство, как правило, вместе с другими предосудительными практиками: бездельем, воровством, богохульством, безответственностью, леностью и непослушанием хозяевам, развратным поведением, воровством и собственно лжесвидетельствованием. Например: «шлюха, и пьяница, и любовница монаха, и воровка, и из восьми дней семь пьяна, и отсюда ясно следует, что она женщина низкая и недостойна доверия»; «пьяница, и со злым умыслом, и дает ложные показания, и украла однажды чепец у жены Родриго де Чильона»; «эта Люсия пьяница и из дома этого свидетеля украла котел, и заложила его в таверне, и слышал, что говорят, что она лжесвидетельница»; «она пьяница, обжора, сумасшедшая, сплетница, лгунья, и когда она напивалась, то блевала и мочилась в юбки, и ее на руках несли домой, а она ничего не чувствовала»; «эта Мария Гонсалес <...> не боялась лжесвидетельствовать против любой католической христианки, <...> и кроме того эта Мария Гонсалес, жена этого Педро де Вильяреаля, женщина неосмотрительная, безрассудная и безумная, и пристрастная к вину, и очень порочная, и мочилась в постели» [3 ].
В краткой форме та же мысль часто присутствует в сетованиях конверсо в формуле “el dicho de un borracho o de una borracha” («сказанное каким-нибудь пьяницей или какой-нибудь пьяницей») [4 ]. Конверса Инес Лопес жаловалась, говоря: «посмотрите, в чем моя жизнь — в словах какого-нибудь пьяницы или какой-нибудь пьяницы», — уповала на то, «что Бог убережет ее от ложных показаний», и предостерегала других: «Пока мы сидим в наших домах, по словам какого-нибудь пьяницы или какой-нибудь пьяницы нам сделают плохо» [5 ]. Мария Гонсалес, жена Педро Диаса де Вильярубиа, «говорила, что из-за слов какого-то пьяницы или какой-то пьяницы сожгли ее мужа, и он умер как мученик» [6 ].
Интересно было бы проверить соответствие этих высказываний реальности: действительно ли многие марраны совершали кидуш, а многие марранки пьянствовали по тавернам? Иными словами: действительно ли этот обычай в конце XV в. входил в практику криптоиудаизма — или уже давно был забыт (вместе с другими)? Действительно ли было распространено такое деструктивное и социально неодобряемое поведение и именно среди женщин и почему? На эти вопросы с помощью инквизиционных материалов (а зачастую и иных источников) ответить невозможно [7 ], но возможно задаться другим вопросом — о соотношении религиозной и социальной норм. К чему стремились конверсо Сьюдад-Реаля: к соблюдению закона или к сохранению чести?
«Все стремятся обесчестить»
В диаспоральных исследованиях общее место — противопоставление диаспоры национальному государству: современные диаспоры самим своим существованием бросают вызов национальному государству, размывая его устои — идею национальных границ и национальной гомогенности, единственности гражданства и верности родине, подрывая представление о нормативности жизни в рамках одной нации и одного государства [8 ]. Еще до возникновения национального государства и связанных с ним понятий такая классическая диаспора со своим развитым законодательством, как евреи со своей галахой, подрывала нормативность местного закона. С одной стороны, никогда не отменялся принцип обязательности государственных законов (дина ди-малхута дина — «закон государства есть закон»), с другой, не утихали дискуссии о том, почему и во всех ли случаях нужно соблюдать «закон государства» и как быть, если он противоречит галахе [9 ].
Иногда «законом государства» разрешалось пренебречь. К примеру, есть средневековые как ашкеназские, так и сефардские респонсы о судебной клятве, позволяющие давать ложную клятву в христианском суде, если по еврейскому закону в инкриминируемом поступке нет состава преступления и если неевреи об этом не узнают. Таким образом, евреи оказываются первыми релятивистами в отношении законодательной нормы, и вдвойне таковыми оказываются марраны. Марраны живут меж двух законов: еврейского и христианского. Соблюдение первого не обеспечивается более никакими институциями, он доживает свой век в качестве слабеющего внутреннего императива; второй — императив внешний, он не ослабевает, но его можно не интернализировать, т.е. не считать для себя обязательным, и осторожно нарушать. В результате ключевым регулятором оказывается не какой-либо из двух религиозных законов, а социальная норма, нарушение которой — не грех, а ущерб своей и семейной чести и доброму имени.
Хотя в тех документах в составе инквизиционных дел, которые сочинялись самими инквизиторами, важнейшие категории — это закон (“ley”) и вера (“fe”), судя по признаниям обвиняемых и показаниям свидетелей, для конверсо они были далеко не столь понятны и релевантны, как честь (“honra”) и репутация, доброе имя (“fama”, “buena fama”).
В описании родственных и коммунальных конфликтов центральная категория — это бесчестье, включающее в себя все многообразие наносимого ущерба — от словесных оскорблений вплоть до убийства: «Все ее братья суть ее враги, <...> между ними была великая вражда и длится по сей день, и все они стремятся ее обесчестить (desonrar), карауля, чтобы зарезать ее и убить и сотворить другие бесчестья (desonras)» [10 ]. Грубость может сопровождаться угрозами физической расправы, в том числе посредством трибунала: «называл ее старой волосатой шлюхой и говорил, что отрежет ей нос», «и угрожал, что она ему еще заплатит» [11 ]; иногда прямо угрожают возведением на костер, что воспринимается как бесчестье, и, требуя оправдания, обвиняемый требует восстановления своей пострадавшей репутации и, наоборот, бесчестит тех, кто его до этого бесчестья довел. В деле Марии Гонсалес отрицание обвинений заканчивается следующими двумя пунктами: характеристикой свидетелей обвинения как «персон лакейских (ceruiles), лжесвидетелей, бесчестных (infames), лживых (falsarios) и моих смертных врагов (enemigos capitales)» и просьбой выпустить из тюрьмы и «восстановить меня в моей чести (honra) и добром имени (buena fama) и снять эмбарго или секвестр, который наложили на мое имущество» [12 ]. Т.е. необходимым компонентом восстановления доброго имени оказывается диффамация врагов — тех, кто навлек на человека бесчестье, в данном случае — свидетелей обвинения.
Так же и восстановление чести святой католической веры и собственно инквизиции, поруганной марранами, возможно только через диффамацию самих марранов. Любая критика инквизиции из уст марранов, в частности, интерпретация ими ее целей как прагматических, квалифицируется как диффамация, например: «Позорила святую инквизицию, бесчестила ее, говоря, что действует она ради того, чтобы грабить и получить имущество осужденных, а не ради возвращения их к святой католической вере» [13 ]. И в качестве «мести» (“venganza”) этой конверсе на нее налагаются позорящие наказания: кляп в рот, гароту на голову, сто палок публично, прогулка верхом на осле по улицам и площадям города [14 ].
Бесчестье от инквизиции можно было получить и другими путями. «В первую очередь наставление и стыд, которые вы получаете этим актом», состоит в том, что каждую пятницу нужно ходить к мессе в определенную церковь; «в первую пятницу каждого месяца первого года будете выходить в процессии наказанных, с открытыми лицами, спинами и босяком, неся перед собой крест», «ходить в церкви или вне ее в процессии с зажженными свечами в руках» [15 ]. Назначая вещи позорные, инквизиция в то же время запрещала вещи престижные: занимать многие должности, церковные и светские, ездить верхом, носить оружие, носить украшения и драгоценные камни [16 ]. В иных случаях запрещалось выходить за пределы дома и двора, и даже там требовалось носить позорящее одеяние: «чтобы знала, ходит она на свету или во мгле, приказываем, чтобы дом ее стал ей тюрьмой и чтобы поверх всех своих одежд носила санбенито с двумя крестами» [17 ].
Функция всех этих наказаний, в первую очередь, не причинение боли и не депривация каких-либо благ, а диффамация, лишение чести, долженствующее вызывать чувство стыда.
«Лучше стыд на лице, чем пятно на сердце»
Здесь уместно вспомнить важную в культурной антропологии классификацию обществ на общества стыда (shame society, shame culture, honour-shame culture) и общества вины (guilt culture, guilt society), прославленную книгой Рут Бенедикт «Хризантема и меч» (1946), в которой японская культура стыда сопоставляется с американской культурой вины:
«В антропологических исследованиях разных культур важное место отводится отличию тех из них, которые полагаются преимущественно на стыд, от полагающихся преимущественно на вину. Культура, насаждающая абсолютные стандарты морали и опирающаяся на воспитание у людей совести, является культурой вины по определению, но человек в таком обществе, например, в Соединенных Штатах, может, испытывать еще и стыд, когда обнаруживает свою неловкость, никоим образом не считающуюся грехом. <...> В культуре, где главной санкцией служит стыд, людей огорчают поступки, которые, на наш взгляд, должны заставлять их чувствовать себя виноватыми. Это огорчение может быть очень значительным, и его невозможно, как вину, облегчить исповедью или искуплением. Согрешивший человек, облегчив душу, утешит себя. <...> Там, где главная санкционирующая сила стыд, человек не получает поддержки, даже когда он откровенно признается в своей ошибке исповеднику. До тех пор, пока его скверное поведение не “становится известным миру”, ему нечего беспокоиться, и исповедь представляется ему просто лишней обузой. <...> Настоящие культуры стыда, в отличие от настоящих культур вины, полагаются на внешние санкции за хорошее поведение, а не на внутреннее признание в грехе.
Стыд — это реакция на критику других людей. Человек стыдится или из-за того, что его откровенно осмеяли и отвергли, или из-за того, что он дал повод себя осмеять. И в том и в другом случаях это мощная санкционирующая сила. Но она требует присутствия публики или, по крайней мере, воображаемого присутствия ее. Вина же этого не требует» [18 ].
В нашем случае нельзя сказать, чтобы одно полностью исключало другое: чтобы марранское сообщество было чистой культурой стыда, а инквизиция навязывала бы ему стандарты культуры вины; скорее, следует говорить о сосуществовании двух регулирующих систем — возможно, в том смысле, как это видел Ю.М. Лотман:
«Выделение в коллективе группы, организуемой стыдом, и группы, организуемой страхом, совпадает с делением “мы” — “они”. <....> Культурное “мы” — это коллектив, внутри которого действуют нормы стыда и чести. Страх и принуждение определяют наше отношение к “другим”.<...> между сферами стыда и страха складывается отношение дополнительности. Подразумевается, что тот, кто подвержен стыду, не подвержен страху, и наоборот. <...>Так, дворянская культура России XVIII века будет жить в обстановке взаимного напряжения двух систем: с точки зрения одной, каждый дворянин — подданный, принадлежащий к “ним”, поведение которого регулируется страхом. С другой — он член “благородного корпуса шляхетства”, входит в его коллективное “мы” и признает лишь законы стыда» [19 ].
В данном случае семиотическая схема универсального сосуществования корректируется описанной на других примерах исторической динамикой — постепенным переходом от одной системы к другой, характерным для судопроизводства раннего Нового времени. Исследования средневековых и модерных пенитенциарных систем и изменений в них, произошедших в этот переходный период, прежде всего, по части вовлеченности публики в наказания, показывают, что постепенно в осуществлении европейского правосудия «община теряет свою главную роль», диффамация — прежде сугубо общественная — институционализируется, становится обязанностью чиновников, властей, а не общества [20 ]. Позорящие наказания, требовавшие участия общины, уходят в прошлое, уступая место «доминирующему правосудию», осуществляемому сверху, государством. Государство Нового времени «экспроприирует привилегии осуществления правосудия у общины» [21 ], борясь с позорящими наказаниями, что «является хорошим примером медленного наступления на традиционные права общины» в целом [22 ].
Испанская инквизиция — институт церковный и коронный, но в своей судопроизводственной практике отводящий существенную роль обществу, включая сбор информации — сыск в том или ином месте начинается на основании молвы и улики против конкретных людей собираются у населения — и систему позорящих наказаний, подразумевающих участие или хотя бы присутствие публики — иначе они не были бы позорящими. Судебное умаление чести (infamia juris) должно приводить к фактической, общественной диффамации «примиренного» еретика (infamia facti) [23 ], к получению им социальной стигмы.
«Карательные режимы интерпретировали стыд как неотъемлемую и важную часть работы пенитенциарных систем. <...> Cтоило бы узнать, насколько стыд функционировал именно так, как предполагали теоретики <...>? Действительно ли преступники в Европе приходили к осознанию своей виновности и порочности в результате систематического и продуманного навязывания стыда сознанию каждого заключенного?» [24 ].
Согласно приведенному выше мнению Р. Бенедикт, стыд и вина функционируют автономно, одно не должно приводить к другому; интересно, скорее, как функционировала собственно культура стыда: конвертировалась ли infamia juris в infamia facti, действительно ли позорящие наказания (участие в процессии со свечами и крестами, ношение санбенито и проч.) воспринимались как таковые — лишали чести и вызывали стыд.
По-видимому, бытовали разные представления о том, что более и что менее стыдно: бежать; не признавать свою вину и погибнуть; признать и подвергнуться позорящему наказанию, от которого, кстати, можно было откупиться (к примеру, освобождение от ношения санбенито стоило 15 динеро [25 ]). Конверса Инес Лопес рассказывала, что «ее мать и сестры не делали ничего из того, за что их сожгли, <...> во всем этом их оклеветали. <...> Ее мать и сестры хотели умереть, чтобы не признаваться в том, чего не делали, а она, чтобы не умереть, как мать и сестры, призналась в том, чего не делала» [26 ], и, соответственно, была «примирена» и носила санбенито. Соседки издевались: «Пришла арендовать дом, донья, меж двух крестов [т.е. в санбенито, где крест был изображен на груди и на спине]». «Ее неприятельница говорила: “Смотрите, <...> зазнавалась как христианка, а теперь ходит в санбенито”. А Инес Лопес отвечала ей, что лучше быть примиренной, чем бежать с деверем в Португалию [как сделала мать этой неприятельницы]» [27 ]. В этом же деле многократно встречается пословица «лучше стыд, или румянец [стыда], на лице, чем пятно на сердце» [28 ], которой Инес Лопес объясняет свое (лже?)покаяние.
Конструирование вины, «чистых иудеев» и «верных христиан»
Карло Гинзбург поднял проблему перевода в работе инквизиторов, проанализировав перевод с языка народной культуры на язык церковной культуры в протоколах допросов бенанданти и Меноккио, мельника из Фриули [29 ], и обратного перевода с языка книжной культуры на язык народной в осмыслении и пересказе Меноккио прочитанных им книг.
В обсуждаемом здесь контексте можно говорить об осуществляемом инквизиторами переводе с языка социального и материального, привычного для марранов, рассуждающих преимущественно о родственных и коммунальных отношениях (зависти, вражде, сплетнях, ссорах, кражах), репутации, социальном статусе и имущественном положении, на необходимый им язык религиозного и правового — с языка стыда на язык вины, а также, по-видимому, об обратном переводе марранами деклараций инквизиции, выдержанных в религиозно-правовом поле, на язык социального и имущественного конфликта.
Инквизиция видит религиозную — еретическую (обвинение) или католическую (защита) — мотивацию у поступков, которые, вероятно, были мотивированы совсем иначе — социальной стратификацией и конфликтами. Каталину де Самору обвиняют в ереси, защита пытается доказать, что она, напротив, верная христианка, и задает своим свидетелям вопрос: «Знают ли они, что Каталина де Самора, будучи доброй христианкой и поступая как таковая, общалась с христианами и плохо относилась к поведению конверсо и питала к ним отвращение». Свидетели подтверждают коммуникативные приоритеты подзащитной, но не их религиозную мотивацию: «Сказал, что знает, что она ссорилась с конверсо и была замужем за старохристианином и идальго». Круг общения обусловлен соседскими отношениями и матримониальным статусом, а не религиозными взглядами. Согласно ответам свидетелей на следующий вопрос, Каталина де Самора «наставляла в нашей святой католической вере и святой доктрине» раба свечницы, иудея, только не из миссионерского пыла, как подразумевает защита, а чтобы насолить свечнице, с которой кон-фликтовала [30 ].
Пользуясь и общепринятыми категориями чести и доброго имени, налагая позорящие наказания, приводящие к диффамации и чувству стыда, инквизиция в то же время навязывала чувство вины, утверждала не слишком релевантные для ее жертв категории — закона и веры — и конструировала идеальные сущности — «полного (чистого) иудея» и «верного католического христианина», чуждые как для общественного повседневного дискурса (который, по крайней мере, подразумевал промежуточные формы), так и — до поры, до времени — для коронного правового. До учреждения инквизиции, когда категории «еретик» и «дурной христианин» утвердились в коронных документах разного уровня — от Эдикта об изгнании до локальных предписаний, королевские ордонансы, адресованные в Сьюдад-Реаль, оперировали категориями социальными.
Хотя в историографии принято говорить о беспорядках в Сьюдад-Реале в 1449, 1464, 1467, 1469 и особенно 1474 гг. как об антимарранских погромах (убивали конверсо, грабили их дома и лавки, вынося мебель, домашнюю утварь, драгоценности, уводя стада с пастбищ, изгнали из королевской крепости, где они укрылись), примечательно, что со-временные документы — королевские ордонансы о возвращении имущества пострадавшим и наказании виновных — говорят преимущественно о социальной группе, об элите Сьюад-Реаля: «рехидоры, кабальеро, эскудеро, поверенные и судьи, торговцы и чиновники и добрые люди, жители Сьюдад-Реаля» [31 ], — а не о новохристианах. В королевском поручении следователю ненависть погромщиков к пострадавшим характеризуется следующим образом: «Совершали против них огромные преступления, как будто те были маврами» [32 ]. Но не иудеями! Подразумеваются, скорее, чужие, гранадские, мавры, политические враги, а не иноверцы, инородчество и иноверие «рехидоров, кабальеро и эскудеро» никак не проговаривается.
В инквизиционном судопроизводстве обвинение и защита конструируют идеальные категории иудея и христианина; каждая подразумевает определенный образ жизни, который и приписывается соответственно обвиняемому или подзащитному: «совершал церемонии иудеев», «соблюдал, как делают иудеи», «добрый, верный католический христианин, творил христианские дела и жил как христианин». В показаниях свидетелей, т.е. в обиходе жителей Сьюдад-Реаля, эти категории зачастую сопровождаются указанием степени, т.е. речь идет, скорее, не о стабильных сущностях, а о качествах, которые могут быть выражены более или менее: «все, кто их знал, считали их большими иудейками» [33 ], «тот был чистым иудеем <...> соблюдал иудейские праздники и общался с иудеями» [34 ], «имел обыкновение читать и молиться, как полный иудей» [35 ]. Это качество не наследственное («не следует из того, что ее мать и ее сестры были иудейки, что она обязательно тоже была ею» [36 ]), но может передаваться с воспитанием: «Много раз слышал, что про нее говорили, что она иудейка, и этот свидетель этому верил, потому что ее отец был очень иудеем (sic), и думает, что она научилась от своего отца» [37 ].
Примечательно, что общественное мнение допускает промежуточные формы между этими двумя категориями или довольствуется нечетким восприятием человека в этой плоскости, очевидно отдавая предпочтение другим (родственным, социальным, имущественным) характеристикам. «В этом городе его держали и принимали за иудея скорее, чем за христианина» [38 ]; «Алонсо Гонсалес и его жена были больше иудеями, чем христианами, и такова была общественная молва и слух в этом городе» [39 ].
Подобные наблюдения о навязывании инквизицией четких религиозных категорий делаются и на материале других трибуналов. «Сила инквизиции происходила из ее способности сконструировать различие из неопределенности. Занимаясь поисками намерения и проступка, инквизиторы в Гвадалупе и других местах создавали четко определенные категории невинности и вины, старых и новых христиан. <...> Все жители Гвадалупе должны были явиться пред инквизиторами, чтобы обвинить — и тем самым дать это определение — своим соседям, недругам, родственникам» [40 ]. Если каких-либо конверсо — обвиняемых или отводимых защитой как лжесвидетелей — пейоративно называют не имеющими «ни страха Божьего, ни стыда перед людьми» [41 ], то, как представляется, первая часть тут риторическая и больше предназначенная для ушей инквизиторов, вторая же затрагивает главный нерв городской жизни.
Источник postnauka.ru
Источник postnauka.ru
