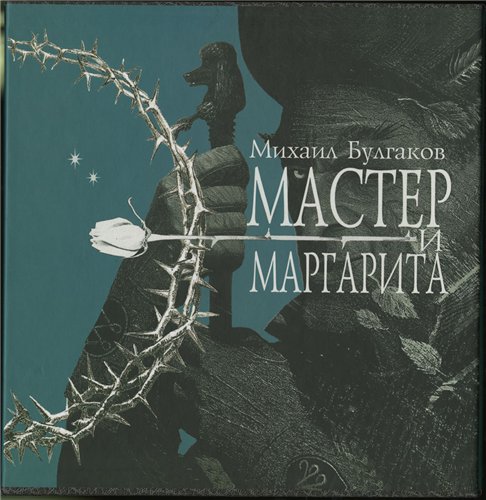
Однажды живший несколько раньше меня
известный философ Диоген, гуляя с фонарем
или без него (не помню), встретил другого
известного философа — Платона — и сказал
ему: «Вот идет лошадь, а вот — лев. Их вижу,
а никакой «лошадности» и никакой «львиности»,
о которых ты столько пишешь и учишь, не вижу»...
Платон ему ответил: «И не увидишь; их видят
другими глазами, которых у тебя нет».
Булгакову... Платон этого бы не сказал.
Прот. Всеволод Шпиллер. Из письма
Идет суд. Спорят обвинение и защита, изощряют свое искусство прокуроры и адвокаты. Прокуроры уверены в себе, логичны и последовательны, адвокаты — как и положено, оправдываются, без конца противоречат сами себе и последний их аргумент — прошение о помиловании. На скамье подсудимых — книга и ее автор. М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Судья... А вот судьи-то и нет. Есть Судья, перед лицом Которого в оправдании нуждаются критики (и адвокаты), а не Роман.
Хочется оставить их и выйти на свежий воздух, но как это сделать? Как обойти железную логику обвинения?
— Ведь образ Иисуса Христа в романе искажен? Искажен. Черную мессу служат? Еще как. Дьявол уравнен в правах с Богом, а то и поставлен выше? Похоже на то. Значит: Дуализм. Гностицизм. Масонство. Интеллигентщина. Сатанизм.
— Да, но ведь страдал, но ведь напомнил о Христе в годы безбожия, но побуждает к размышлениям, но многие пришли к вере через этот роман. Да и с дуализмом все не однозначно. Жаль только, что переиначил он все-таки Евангелие, а там и все наперекосяк пошло.
— Итак, в главном мы согласны. Идейно чуждое произведение.
Как просто! Взяли учебник догматики, сравнили, слушали. Постановили.
Господа! Так книги не читают.
Ведь это —- роман.
Художественное произведение.
А в них, по доброму слову старого Шиллера, форма уничтожает содержание. Например: весь роман — сплошное, безостановочное, очень смешное действие, но — почему-то очень грустно и все время думаешь о смысле жизни. Роман заполнен голыми женщинами — но наша сексуальность на это не реагирует. Наконец, роман преисполнен страха, страдания и отчаяния — но возвышенное чувство, возникающее после его прочтения, лучше всего передается словами Воланда: «Все будет правильно. На этом построен мир». Очевидно, что эмоциональный разряд, наступающий после слов «пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат», — разряд, со времен Аристотеля называемый греческим словом «катарсис», «очищение», и есть та цель, к которой сложными путями автор ведет читателя. Понять роман — значит разобраться в этих путях, уяснить направление и смысл окончательного разряда, то изменение, которое он производит в нашей жизни. Пока не решена эта задача, говорить об идейной направленности романа представляется делом праздным. И наоборот, если ее решить, очень может быть, что эта самая идейная направленность проясниться сама собой.
Любое художественное произведение, по крайней мере, любое стоящее, выстроено из противоречий, оно призвано пробуждать в нас противоречивые чувства, играть ими, тем самым оно заставляет нас страдать и сопереживать, меняет наше (воспользуюсь словом о. Алексея Мечева) «устроение». Только во вторую очередь оно воздействует на наши мысли. Попробуем прояснить систему противоречий, из которых скроен наш роман, и рассмотрим некоторые из них. Нетрудно заметить три основных элемента, из которых складывается роман: материал, использованный автором, совокупность сюжетных линий, характеры героев.
Начнем с материала. Им для романа послужили: культурная жизнь Москвы 20-х — 30-х гг. ХХ века, в особенности литературная среда; Новый Завет, в особенности Четвероевангелие; совокупность религиозных и мистико-оккультных познаний автора; литературная традиция, на которую опирался автор, прежде всего, Гете, Гофман, Пушкин, Гоголь и Достоевский, вероятно, также готический роман, а-ля «Мельмот Скиталец». Я решительно настаиваю на том, что все вышеперечисленное явилось для Булгакова материалом, т.е. только средством, необходимым для создания художественного эффекта и ничто из этого не было целью: ни апология христианства, ни апология гностической мистики.
Рассмотрим пример. Легко обвинить Булгакова в искажении образа Христа и евангельской истории и легко найти этому идеологическое объяснение в его «сознательном и резком неприятии канонической новозаветной традиции» и тяготении к апокрифам. Приняв эту предпосылку, можно спокойненько оставить в стороне текст романа и предаться замечательным фантазиям на темы масонства, альбигойцев, софиологии и возможной степени знакомства Булгакова со всей этой компанией. С выбранной нами точки зрения, такой ход мысли независимо от того, служит ли он целям восхваления Романа или его дискредитации, представляется опять-таки праздным. Зададимся другим вопросом: решению какой художественной задачи отвечали те изменения, которые Булгаков вносил в этот образ и в эту историю? Ответ также нетруден: евангельский материал нужно было совместить с московским, иными словами, соединить несоединимое. Мастер не мог писать роман о Христе, потому что, во-первых, о Христе вообще нельзя писать романа, а во-вторых, в Москве 20-х — 30-х гг. ХХ века о Христе можно было писать только в духе Бездомного или Берлиоза. Ergo Мастер пишет «роман о Понтии Пилате», но в этом случае он обязан на всю историю смотреть глазами Пилата (но отнюдь не Воланда, как это часто утверждается). Относительно самостоятелен только Левий Матвей, но и он должен выглядеть таким, каким его видит Пилат. Поэтому из всех апостолов выбран именно св. Матфей: про него известны только две вещи: это «бывший сборщик податей», который выбросил деньги и последовал за Иисусом, и это — автор первого Евангелия. Из всех апостолов оставлен только он, поскольку введение остальных, особенно такой колоритной фигуры, как св. Петр, безумно усложнило бы текст и оттеснило бы на задний план главного героя. Тем самым объясняется и поразительное «ясновидение» Мастера, подтверждаемое Воландом: он действительно «все угадал», но — глядя глазами своего героя.
По тем же причинам свои метаморфозы претерпевает и московский материал. Историку и социологу судить по роману о сталинской Москве было бы опрометчиво. На фоне евангельского повествования и метафизики эта Москва могла быть изображена только сатирически. И Булгаков, не стесняясь, выпускает на свободу свою ненависть к литературной и театральной среде вообще и ее бюрократической части в особенности. В то же время, эта среда — органическая часть той сферы обыденной человеческой жизни, без которой не может обойтись ни один человек. Исток булгаковской ненависти в жуткой диалектике этой обыденности: жить в ней невозможно, но без нее нельзя обойтись. Нельзя не стремиться вырваться из нее, но любая попытка выйти за ее пределы ведет к безумию и смерти. Невыносимость ситуации снимается прорывом третьего пласта реальности — метафизического мира, по отношению к которому мир земной предстает как его не самый значительный аспект.
Из соединения этих двух планов вырастает основное противоречие романа: противоречие комедии и трагедии. Комизм романа общеизвестен, но, тем не менее, нуждается в пояснении. Комизм этот отчасти принадлежит поверхностному, сатирическому слою повествования и личному остроумию М.А. Он, с одной стороны, обусловлен, как уже было сказано, задачей соединения разнородных слоев материала, с другой же — исполняет роль своего рода приманки или наживки, заглотив которую, скажем, где-нибудь в средней школе, читатель оказывается вовлечен в художественную систему романа и уже не может вырваться из нее, пока не проживет ее всю. Однако к этому он не сводится.
Сам принцип построения комических ситуаций в романе таков, что уводит читателя с поверхности в глубину художественной системы, превращает комедию в трагедию. Поясню: основу комизма романа составляют ситуации, скажем так, «неузнавания». Сатана приходит в свой мир, к своим послушным орудиям, всю жизнь выполняющим его злую волю. Он, однако, настолько успешно убедил их в своем (вместе со всем метафизическим миром) несуществовании, что они не узнают и не признают его и, более того, устраивают на него грандиозную, хотя и бессмысленную охоту. Комичны подданные «князя мира сего», не узнающие своего господина, но комичен и он, поставивший себя в такое положение. Комичность положения Воланда, при всей его внушительности, еще и в том, что уничтожающий собственных подданных он вынужден спасать единственного (в пространстве романа) человека, реально противостоящего его царству, — мастера.
Тем самым смех, сопровождающий вторжение метафизического мира в мир повседневности, оказывается средством, раскрывающим духовные основы обыденности, растворяющей в безличной общности существование тех, кто к ней принадлежит вполне, и уничтожающей тех, кто пытается обрести подлинное существование и трансцендировать ее рамки. Смех, подобно тому как это часто происходит в эстетике обэриутов, оборачивается ужасом. И этот ужас был бы безысходен, если бы за рамками обыденности не существовал другой, мета-обыденный, метафизический мир, принимающий в себя тех, кто решается (в акте веры, прежде всего) перешагнуть через порог обыденности.
Метафизический мир, как и другие элементы материала, дан в романе таким образом, чтобы сопрягаться с другими планами. Одна из главных ошибок наших современных истолкователей состоит в том, что они пытаются, исходя из материала Романа и еще каких-нибудь биографических данных, так или иначе реконструировать личные религиозные убеждения М.А., соотнести их с православной догматикой и на этом основании решить: похвалить его за то, что он все-таки в чем-то ей соответствует, или поругать за то, в чем этого соответствия нет. В обоих случаях выстраиваемое здание покоится на песке. Причина проста: личные религиозные убеждения автора могли войти в роман лишь в той мере, в какой они могли встроиться в решение основной художественной задачи, в общую логику образного мира Романа.
Тем самым напрашивается вывод: изображение метафизического (так же как и евангельского, и московского) мира в романе определяется его функциями в общей конструкции. Он должен обеспечивать посредничество между евангельским и московским пластами повествования, он должен быть исходом и убежищем для расстающихся с «миром сим». Однако характер этого «мира сего», как он изображен в романе, таков, что «мир иной» может быть обращен к нему только своей жуткой, демонической стороной. Церкви, которая могла бы быть звеном, связующим этот мир с миром Света, с Царством Божиим, в романе нет, и Булгаков достаточно реалистичен, чтобы показать нам истинного правителя «мира сего». Лишь в конце романа возникает просвет в этом ужасе: становится ясно, Кто же Такой, на самом деле, Иешуа Га-Ноцри, к исполнению воли Которого приводится Воланд, несмотря на всю неохоту, логикой своих собственных действий.
Обратимся от материала к сюжетным линиям романа и изображенным в нем характерам.
Некто историк, служащий музея, выигрывает в лотерее крупную сумму денег, бросает работу, снимает квартиру в подвале и начинает писать роман о Понтии Пилате. Он встречает замужнюю женщину по имени Маргарита, которая скоро становится его тайной женой. Роман дописан, и Мастер (так называет его подруга) пытается его опубликовать, однако становится предметом травли со стороны критиков и издателей. Он лишается квартиры, сходит с ума, и оказывается в клинике для душевнобольных. Там он знакомится с поэтом Иваном Бездомным, только что встретившимся на Патриарших с сатаной. С этим же последним встречается Маргарита, которая оказывается королевой бала и в награду извлекает своего любовника из сумасшедшего дома. Они оказываются в том же подвале. Параллельно нас под разными предлогами знакомят с текстом романа. Именно текст оказывается решающим в судьбе Мастера. Прочитавший его Иешуа «просит» Воланда забрать обоих и награждает их «покоем». Одновременно оба героя умирают: Мастер в больнице, Маргарита — в особняке своего мужа.
Такова в кратком пересказе одна из многих, но, по логике вещей, основная сюжетная линия романа. Нетрудно заметить, что порядок событий отнюдь не соблюдается автором. Более того, главный герой появляется только в 13 главе первой части романа, а главная героиня — вообще только в 1 главе второй части. С другой стороны, ряд решающих событий — написание романа, встреча главных героев — уже произошли к тому времени, когда начинается действие, и непосредственно мы имеем дело только с их последствиями. Тем самым эта основная сюжетная линия оказывается как бы прикрыта автором и вместо нее на первом плане оказывается чрезвычайно сложное переплетение групп, или пучков сюжетных линий, из которых, прежде всего, бросается в глаза и затемняет все остальные (особенно в детском, точнее, подростковом восприятии) — сатирико-демоническая линия: «похождения Коровьева и Бегемота». Вторая группа сюжетных линий, обращающая на себя внимание людей более серьезных и заинтересованных «религиозными проблемами», связана с Ершалаимом, Пилатом, Иешуа, Левием Матвеем, т.е. «роман мастера». И здесь центральным персонажем, как уже говорилось, оказывается Пилат. На наших глазах разворачивается мучительная агония прокуратора, на фоне которой умирает на кресте Иешуа, мечется несчастный Левий Матвей, погибает Иуда из Кириафа. Все эти образы исполнены противоречий, но самый противоречивый и оттого так приковывающий к себе наше внимание — образ Пилата. О нем известно, что он жестокий правитель, храбрый воин, циник. И эти качества в нем время от времени проявляются, но главным образом, мы видим правителя, проявляющего заботу о ненавистном городе (водой из Соломонова пруда собирается он напоить народ), человека гуманного (по меркам своего времени), при этом нерешительного. Портрет завершается знаменитой «трусостью», мешающей Пилату спасти Иешуа. На центральность образа указывают постоянные упоминания Пилата в «московской» части романа, особенно рассказ Мастера о своем замысле: кончить роман той же фразой о Пилате, которой он и начинается. Играя на этих противоречиях, заставляя читателя сопереживать с героями перемены в их судьбах и, главное, в их душевных состояниях (главным образом, от надежды к отчаянию и обратно), писатель ведет нас к финальной сцене — сцене прощания и прощения. Все сюжетные линии сходятся в этой точке вне пространства и времени: Воланд и его преобразившаяся свита, Мастер и Маргарита, Пилат и Иешуа. Мы как бы заново вкратце вспоминаем все пережитое на протяжении романа; Мастер, отпустивший своего героя, обретает вечный приют; накопившийся заряд чувств разрешается в последней фразе, той же, которой оканчивается и роман Мастера: «жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат».
Подводя итог, скажем следующее: роман, как и всякое произведение искусства, играя нашими чувствами, пробуждает, высвобождает наши духовные силы, не определяя при этом направленность их деятельности. Противодействовать им, пытаться их подавить — дело не очень осмысленное, ибо они сильнее нашего сознания. Сложнее технически, но эффективнее в конечном итоге — доброжелательным и непрямолинейным истолкованием направить их на служение Богу и Его Церкви.
Последней иллюстрацией сказанного может служить Эпилог романа, заканчивающийся, как известно, той же знаменитой фразой и играющий, мне кажется, огромную роль и в композиции, и в идейном замысле произведения. Он не просто доводит до завершения оборванные второстепенные московские сюжетные линии. Вновь подчеркивая трагическую двойственность нашей обыденности, Булгаков именно здесь придает ей новый, положительный смысл: иной, духовный мир оказывается всегда присутствующим в этом повседневном мире и тайно направляющим его движение. Покинутая Москва, Пилат и Иешуа, Маргарита и Мастер вновь соединяются в больном сознании «бывшего поэта» Ивана Николаевича, единственного ученика Мастера. Мы вновь и как бы вместе с ним вспоминаем чувства, пережитые нами в связи с этими образами, и вместе с ним успокаиваемся, когда Иешуа, делая бывшее небывшим, освобождает Пилата от тягости его преступления.
Тонкая перегородка отделяет эту тайную жизнь Ивана Николаевича от явной, в которой для всего этого, конечно, не находится места (мы, однако, не знаем, чем занимается он в качестве историка — уж и в самом деле, не пишет ли продолжение?). Ему, однако, не дано, по слову Платона, «повернуть глаза души» и преодолеть глубоко запрятанную внутреннюю раздвоенность. К нему приходит забытье, но читатель, видящий одновременно обе стороны его сознания, примиряется с жизнью, в которой «все устроено правильно», и вместе с тем остается в убеждении, что духовный мир нельзя запретить, не исковеркав человеческой жизни, что никто не может быть изгнан из этой жизни, в том числе и жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.
