- Интервью
«Трагедия — это не история поражения, а благая весть о победе». Беседа о книге Жарко Видовича «Трагедия и литургия»
Опубликовано: 21 января 2026
Источник
Богослов.RU
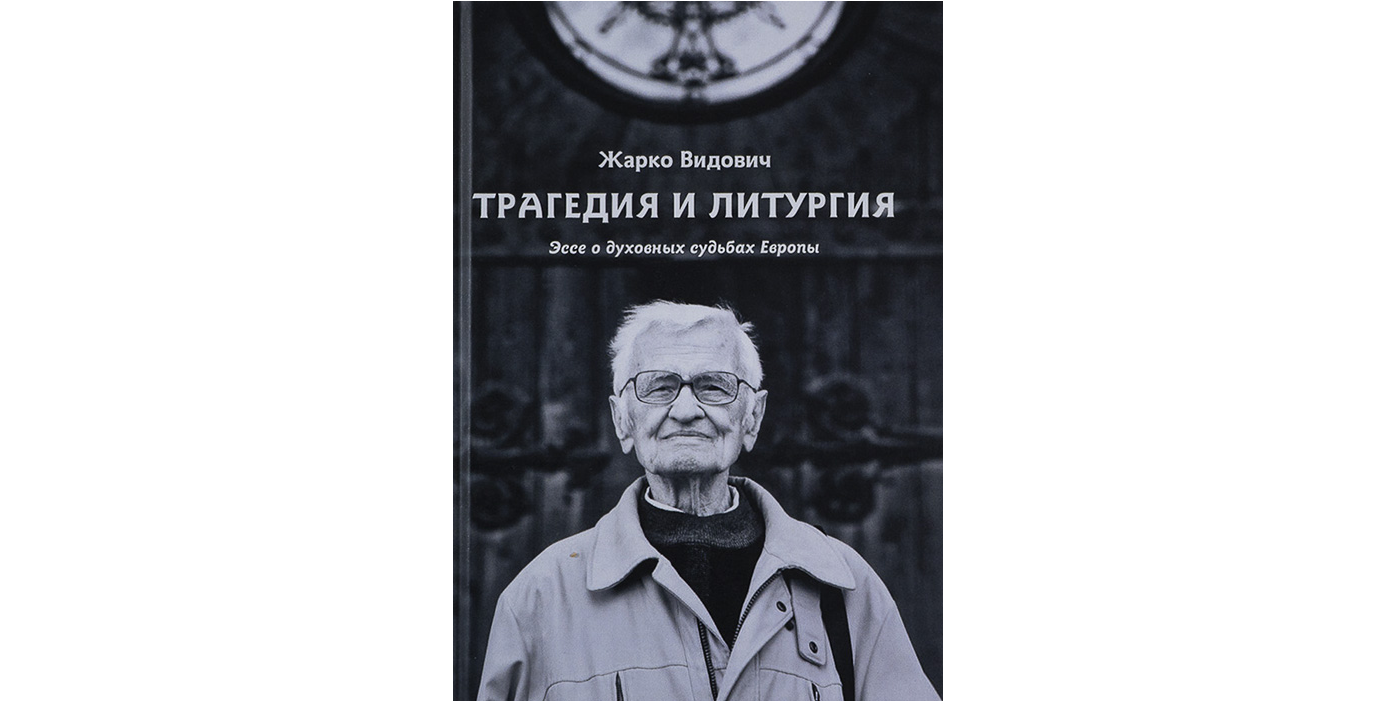
Александр Юрьевич, как Вы познакомились с Жарко Видовичем и как пришли к работе над переводом его труда «Трагедия и литургия»?
Я познакомился с ним в Белграде через общую знакомую. Мы долго общались, хотя я не знал сербского и мог свободно говорить только на английском и плохо — на итальянском, а Жарко не знал русского и плохо говорил по-английски. Он уловил, что меня в тот момент серьезно мучили вопросы соотнесения христианской жизни, христианского подвига и творчества. Я серьезно рефлексировал по поводу того, что поэзия, в общем-то, не является путем спасения для христианина. И тогда Жарко удивительно резко (в метафизическом смысле) выступил против моего суждения и начал меня убеждать, что поэзия — это и есть высшая форма христианского творчества. Он ссылался на Петра Негоша (Петр Петрович Негош — правитель Черногории в 1830–1851 гг. и митрополит Черногорский и Бердский. — Прим. ред.), на других поэтов, и в результате всей этой беседы подарил мне свою книжку «Трагедия и литургия» с трогательной надписью: «Дорогому Сане — русскому и поэту за нашу сербско-русскую душу и мысль». Жарко мне на той первой встрече убежденно говорил, что Христос был поэтом и поэзия, настоящая поэзия, — это голос Христа (бесспорно, не любая поэзия!). В общем, каким-то странным образом он меня тогда поддержал в моих, скорее, не сомнениях, но каких-то колебаниях.
Кажется, Жарко Видович пришел к вере в тюрьме. Почему именно православие?
Так как он серб, он родился в православной традиции. Крестился, я думаю, он не в тюрьме, а раньше. Мы очень хорошо друг к другу относились, но это не была такая дружба, когда человек открывает о себе многое, поэтому подробности мне неизвестны. Хотя я знал его семью, жену, знал, что у них случилась трагедия — ребенок погиб. Рядом с ними одна семья жила, в которой был мальчик. И они этого мальчика постоянно к себе брали. Однажды я шел по Белграду и вдруг увидел Жарко. Он как раз шел от храма к себе домой. И у него на руках был этот соседский мальчик. Жарко прямо светился. Я говорю: «Жарко, здравствуйте! Как ваши дела?» Он говорит: «Я причастил мальчика, мы как раз домой возвращаемся». Для него православие было основанной на опыте, серьезно отрефлексированной с его философских, культурологических, богословских позиций верой!
Автор книги с парадоксальным, на первый взгляд, названием — «Трагедия и литургия» говорит, что трагедийная позиция необходима для понимания гармонии и спасения. Современному человеку это не очень понятно. В чем суть этой концепции?
Жарко Видович об этом как раз пишет, и в этом его новаторство. Он говорит, что если учитывать идеи Аристотеля, да и всю эту линию мысли, которая идет от Аристотеля до Ницше, то вся античная и западная философия рассматривает трагедию как жанр внутри некой системы. Но для древних греков та исконная трагедия была мироощущением, а не жанром. Жарко Видович даже предлагает нам различать «трагедию» и «трагодию в древнегреческой культуре». И это трагедийное начало, с точки зрения Жарко, относится к области мистерии, к области прямого общения с божеством (у греков — с языческими богами, а потом уже, в монотеистических религиях и в христианстве, — и с Богом-Творцом).
В этом смысле трагедийное — это не то, что мы с вами обычно подразумеваем, — переживание потери и так далее. Это некоторое ощущение целостности жизни, в которой всегда есть момент победы над смертью. Но у нас есть этот опыт трагедии как явления, которое завершается не смертью героя, а победой над смертью, его прославлением. Это всегда открыто и актуально для любого человека в любой момент — стараться увидеть мир как победу.
В своей книге Жарко Видович говорит о том, к чему призывал отец Сергий Булгаков, — «вводить в любое решение задачи о мире религиозный коэффициент». Можете пояснить, что это означает?
Вообще, одна из главных интуиций русской философии (о которой все спорят, есть она или нет), которая идет от Киреевского и Хомякова через XIX в., а затем, через Соловьёва к Булгакову в XX в., — о «перегородке», которая существует у нас в голове, между разными способами и модусами мышления — научным, религиозным, бытовым, экзистенциальным. Эти перегородки во многом условны, выдуманы. В реальности, в бытии человека это все осуществляется одновременно или может осуществляться одновременно. Религиозное, философское и научное мировоззрения не только не противоречат друг другу, но скорее они призваны объединяться.
В этом смысле любое действие человека, если он действительно стремится к целостности, а не к переходу из одной «комнаты» в своей голове в другую, всегда будет иметь «религиозный коэффициент», то есть оно всегда будет устремлено к каким-то моментам не только здешнего бытия, но и к трансцендентному. Любое действие, даже самое простое бытовое, может быть частью некоего высшего замысла.
Давайте поговорим непосредственно о книге. Возникали ли у Вас сложности при переводе на русский язык исходного текста? Ведь он, очевидно, непростой.
Сложности были на нескольких уровнях. Первый уровень сложности — его личный философский язык. Жарко довольно часто использует своего рода неологизмы или выбирает у слова такое значение, которое не является общеупотребительным. Например, есть сербское слово «превазилажење». Оно в переводе на русский значит «преодоление». Но это слово «преодоление» тут совсем не подходит, я остановился на «превосхождении», чтобы передать интенцию к высшему — не просто преодоление препятствия, но переход на иной уровень, восхождение и преодоление в едином порыве.
Второй момент — технический: очень часто нет ссылок, когда Жарко дает какой-то термин, например «катарсис». И здесь непонятно, в каком контексте — платоновском, аристотелевском? Все это требовало дополнительной большой работы.
Третья сложность — работа с цитатами. Само издательство предложило просто давать русские переводы. Но дело в том, что Жарко читал не на русском, у него нет русских изданий, он читал на греческом или сербском. То есть это был бы двойной перевод. И мне важнее было передать, как Жарко понимает и использует цитату, а не просто привести ее академический вариант. Поэтому я приводил его версию, сохраняя его интерпретацию.
Иногда Жарко (или корректор), как я понимаю, ошибался. Было два момента, в которых мне пришлось долго разбираться. Например, сюжет с жонглером Богоматери — это известная средневековая притча, литературную версию которой Жарко приписывал Виктору Гюго. Я все перекопал у Гюго, но так и не нашел у него этого сюжета. Тогда я обратился к выдающемуся преподавателю Станиславу Бемовичу Джимбинову, с которым был знаком еще со студенческой поры, уникальному по объему знаний человеку. Я ему позвонил и говорю: «Помогите, теряюсь, где у Гюго этот сюжет?» А он и говорит: «Это не Гюго, это Анатоль Франс» («Жонглер Богоматери» — рассказ французского писателя Анатоля Франса, основанный на христианской легенде XII в. В 1909 г. Александр Куприн перевел его на русский язык. — Прим. ред.).
Четвертая проблема — стилистическая. У Жарко стиль не академический, он очень страстный философ: обилие восклицательных знаков, многоточий... В русском нет такой эмоциональности в тексте. У нас, если предложения через одно будут с восклицательным знаком, это будет странно. Пришлось где-то оставлять, где-то убирать.
А кто был заказчиком этой непростой работы?
Изначально мне ее заказал журнал «Современная драматургия» в сжатые сроки (в 1997 г. я сделал перевод, а с января 1998-го перевод вышел в трех номерах журнала). Вообще, как возникла идея переводить... У меня были книги Жарко Видовича, и я их сам читал. К тому моменту я еще не настолько хорошо знал сербский, чтобы серьезно браться за перевод. Я вообще не думал, честно говоря, переводить. Просто всем рассказывал, что есть такая потрясающая книга, совершенно новый корпус идей, новый взгляд на античность, Литургию и на современный мир. И моя знакомая, филолог, замечательная Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доктор наук, сказала: «Александр Юрьевич, это надо переводить срочно». Я говорю: «А кто возьмется за такой труд? Это сербская философия, кто ее знает?» А она ответила, что раз никто не знает, придется мне. И вот вдруг мне звонят из журнала «Современная драматургия», представляются, что они от Ирины Леонидовны, и говорят: «Вы знаете, у нас давно не было теоретических работ. Мы вам заказываем перевод». Тогда я и сел переводить. Правда, я не включил в перевод тогда все стихотворные цитаты Негоша. Почему? Нужно было переводить в сжатые сроки — поэтический перевод требует иного времени и усилий. Так что эти цитаты пришлось просто пропустить.
Впервые на русском языке работа сербского философа Жарко Видовича «Трагедия и литургия» была опубликована в журнале «Современная драматургия» (1998, 1–3). Тогда же на нее написал первую рецензию Юрий Нечипоренко (интернет-издание «Русское поле», 2002, вып. 5). В ней сказано: «Значение этого события трудно переоценить: в данной работе осмысливается, по сути, весь опыт развития европейской философии, даже более того — культуры в целом». Но, насколько я знаю, этим вся наша критика и ограничилась и больше о Видовиче никто не писал.
Когда же нашлось издательство (Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета), заинтересованное в более полной публикации, я вернулся к этим фрагментам Негоша. Я перевел их не как строгую метрическую поэзию, а скорее как ритмизованный подстрочник, — сохраняя поэтическую мысль, но не формальную сложность оригинала. Кроме перевода поэтической части я сделал ряд примечаний по терминологии Платона, Аристотеля, Канта, Хайдеггера в концептуальном и понятийном контексте идей Видовича.
У Жарко Видовича были отсылки к философам, он находился отчасти под влиянием Хайдеггера, Канта, Гегеля... А среди отцов Церкви были для Жарко Видовича авторитеты, на которые он ссылался?
В «Трагедии и литургии» Жарко Видович из духовных писателей чаще всего ссылается на Николая Кавасилу, но больше все-таки апеллирует к философам, поэтам. Интересно, что тексты святых отцов, которые именно о Литургии пишут, он ставит через запятую в один ряд с Гоголем с его «Размышлениями о Божественной Литургии». Конечно, он относится к нему не как к отцу церкви, но как к автору, важному для понимания темы.
В целом ссылки на святых отцов у него нечасты. Бесспорно, он имел религиозный опыт и был человеком воцерковленным. Но он все-таки больше говорит на языке философии и культурологии, чем на языке богословия со ссылками на святых отцов.
Можно ли считать, что его труд «Трагедия и литургия» — это своего рода реакция на ужасы XX в., которые коснулись как самого автора, так и всего человечества в целом?
Нет, я бы не стал сводить это исключительно к реакции на ужасы XX в., хотя некая связь все-таки присутствует. Его труд — это достаточно серьезная критика современной жизни. Она в целом касается не только войны, лагерей или тоталитарных режимов, а вообще состояния человека XX в. Об этом Жарко и пишет, что нами совершенно утеряно это трагедийное ощущение трилогийной жизни. Мы видим жизнь исключительно как драму страстей и страданий, упуская из виду благую весть — литургийное, пасхальное начало, которое завершается не смертью, а победой над ней.
Показательно, что в европейской культуре он находит лишь два примера возвращения к такому цельному мироощущению: у Мигеля Сервантеса и Федора Михайловича Достоевского. Именно в «Дон Кихоте» и «Братьях Карамазовых», по мысли Жарко, присутствует эта трилогийность, где история завершается превосхождением — торжеством над смертью.
Каким образом, согласно позиции Жарко Видовича, европейский мир утратил фундаментальные ценности и пришел к современному нравственному и духовному упадку?
Согласно позиции Жарко, утрата фундаментальных ценностей началась, когда произошла подмена целостного восприятия через ощущение, через личный опыт, когнитивно-разумным путем. То есть человек начал переводить эту полноту бытия, которая постигается только через опыт, на язык абстрактных понятий и общих категорий. Именно с этого момента и начинается отход от полноты и целостности, а вместо них — постепенная деградация культурных институтов.
Он приводит пример — современные Олимпийские игры. Для древних греков это была мистерия, где победа была обожествлением героя — лавровый венок был атрибутом Зевса. А сейчас игры превратились в одно из многих шоу, где главное — материальные блага и земная слава, а сакральное, мистическое начало полностью утрачено. Начало всего этого лежит в том моменте, когда греки, а за ними уже и вся Европа, отказались от этого целостного, трилогийного сознания, когда произошла подмена трех стадий восприятия мира этой категориальностью, где разделены опыт, чувство и разум.
То же произошло и с театром. Нам со школы внушают, будто в античности существовало правило «трех единств» — места, времени, действия, подобно принципам в классицизме. Жарко доказывает, что ничего такого не было у греков, что это — поздняя умозрительная конструкция, возникшая в XVI в. На самом деле для греков это значило совершенно другое. Это отождествление с местом, где находится божество, это единство действия с божеством, а не просто правило, как надо ставить пьесу!
Таким образом, ключевыми точками этого распада стали «Поэтика» Аристотеля, эпоха позднего Возрождения и классицизм. В «Поэтике» трагедия впервые была объявлена не мистерией, а театральным родом. Тут следует уточнить, что сам Аристотель термин «жанр» не использует. Речь идет о том, что Аристотель переводит язык таинства и мистерии на язык логических категорий (характер (ethos), мысль (dianoia), очищение (katharsis), сюжет (muthos), стиль (lexis), страх, сострадание, мимесис). Термин «жанр» возникнет позже. По-настоящему триада драма — лирика — эпос заработает лишь с XVIII в., да и деление на жанры внутри родов до этого времени было неустойчивым и у разных авторов вкладывался разный смысл в эти термины. А второе — это когда из античного наследия были извлечены чисто формальные, литературоведческие категории, лишенные изначального смысла. В итоге мы приходим в театр или на стадион для развлечения, но не для участия в культе. Смысл этих действий утерян, а форма сохранилась как пустая оболочка.
К каким философским и культурным истокам восходит то понимание трехчастности трагедии, которое транслирует Видович?
Если говорить об истоках трехчастной структуры трагедии, то, согласно Жарко Видовичу, она восходит к самой природе античного театра, который он понимает не как «зрелище», а как «место, с которого смотрит Бог». Театр был храмом, а поэт — жрецом. Сама трагедия не была развлечением, она была сакральным элементом жизнестроительства, религиозным действием. На это время войны прекращались, а все люди старались подумать о главном — высшей связи с божественным.
Чтобы сохранить в себе в этом смысле ощущение мистерийности трагедийного, или трагодийности, как именно ощущения сложной структуры мира, нужно было понять трехчастность системы: первая часть — испытание, вторая — потеря и смерть, наконец, третья — прощение, победа, воссоединение. Как пример можно привести трагедию «Орестея» Эсхила. Ее финал демонстрирует суть третьей части, когда богини мести эринии превращаются в богинь справедливости и милосердия эвменид, а Орест, несмотря на страшное деяние (убийство матери), получает прощение и спасение. В итоге получается, что у Эсхила в трагедии торжествует не смерть, а жизнь, преодоление рока и утверждение высшей справедливости. Здесь важное отличие от поздней европейской традиции. Например, у Шекспира в «Гамлете» финал страшной трагедии заканчивается смертью главного героя.
Эту же логику Видович реконструирует и в других текста, например в цикле о Прометее («Прометей прикованный», «Прометей-огненосец», «Прометей Освобожденный»), где финалом также становится освобождение и прославление. Эта идея, что в конце мира будет прославление и превосхождение, действительно чрезвычайно важна. Она придает его книге глубоко радостный характер. Несмотря на то что сам автор прошел через ужасы XX в. (бегство из Сараево и Загреба, нацистский и коммунистический лагеря), его мысль утверждает не отчаяние, а торжество.
Для Видовича трагедия в ее исконном понимании — это не история поражения, а благая весть о победе. И в нем самом я помню эту радость. Он как бы и мне внушал радость. Он говорил: «Ты же поэт, это вообще высшее, что есть. Так как здесь сомневаться? Спасется ли Кант — вот вопрос, а вот поэт всегда спасется!»
Жарко Видович в своей книге говорит, что беда Запада заключается в том, что тот отпал от истинного исповедания христианской веры. А какого мнения он был о Востоке?
Жарко Видович подробно рассматривает этот вопрос в своем главном теологическом и метафизическом труде — «Очерки духовного опыта». В этой работе он выстраивает именно православную метафизику, противопоставляя ее западной традиции. Он очень много спорит с Хайдеггером и с другими западными философами. И показывает как раз, почему на Западе утратили вот эту интуицию победы над смертью. Только делает он это все-таки больше на философском языке.
Видович не столько цитирует святых отцов или догматические тексты, сколько описывает само мироощущение. Он показывает, как может работать метафизика, не отбрасывающая божественный опыт, но встроенная в него. Таким образом, хотя он и не формулирует это в виде прямого утверждения о превосходстве Востока, вего работе имплицитноприсутствует четкая православная позиция, которая держится на соборах, на двухтысячелетнем опыте Церкви.
Жарко Видович говорит о современном человеке как о человеке опустошенном, трагическим. А где такому человеку, по его мнению, находить надежду?
Он не дает прямых наставлений. Не призывает, как Николай Васильевич Гоголь, идти в храм. Он это оставляет свободному выбору читателя.
Напомню, его книга рассказывает о гибельном пути — от забвения высокой древнегреческой мысли к утрате рыцарского идеала в Европе. На смену рыцарю, по мнению Видовича, приходит фигура карлика-шута — основа постмодернистской культуры, вселенский шут, который лишь развлекает. Как из этого выйти? Вариант первый — направить свой взор туда, где мир еще воспринимался всерьез и целостно, то есть к античной мистерии. Второе — понимать, что перед тобой не реальность, а некоторое выдуманное, этакий симулякр — некоторая псевдодуховность, псевдокритицизм, псевдобеседа, псевдожизнь, и этот симулякр способен производить лишь общемеханические вещи, подменяя ими динамику жизни. Тебя научили, что должно быть в жизни, и ты по списку это все проходишь: школа, карьера, дипломы и так далее. А все это не сущностные вещи, не они главное.
Жарко не нигилист, он не против этого, он не опровергает все, как Ницше или Хайдеггер. Он не противник технологий и современного способа жизни, он просто говорит, что это не первичные вещи, они не могут быть сущностью, содержанием жизни. Само содержание жизни сегодня, увы, утеряно. Потому что мы из полноты нашего бытия, из вести о спасении пришли к вести об эдакой психосоматической сущности человека. Современный человек живет, переживает, книжечку открыл, в театр сходил — но ничего в человеке от этого не меняется. А чтобы этого не было, надо, чтобы человек в поэзии увидел этот Божественный голос, чтобы, скажем, в театре он ощутил, что это место, с которого смотрит Бог, а не статьи критиков и красная икра в антракте. Важно осознать, что всегда в конце есть возможность победы, и задача состоит в том, чтобы в каждом своем действии человек старался вернуться к утраченному содержанию.
Как Вы думаете, кому философия Жарко Видовича сейчас, в современном мире, будет интересна?
Труд Жарко Видовича, по моему мнению, будет интересен нескольким категориям современных людей. Тем, кто переживает экзистенциальный кризис — ощущение бессмысленности, душевную пустоту или депрессию. Я думаю, что когда человек через это проходит, если у него все-таки есть желание что-то менять, ему труд Жарко будет актуален. Другое дело, что наш читатель, надо быть откровенным, все-таки не привык к сложному разговору, сложному языку. Ему, условно, нужен простой рецепт. Ток-шоу включил, и тебе за три минуты объяснили, как герой на какой-нибудь курс записался и стал счастливым.
Еще труд Жарко будет интересен культурологам. Они, наверное, найдут свое, потому что все-таки это действительно очень яркая, глубокая книга, я бы сказал, уникальная в своем смысле. Совершенно другой взгляд вдруг возникает после привычного ницшеанского и символистского подходов. Неожиданно возникает совершенно другая трактовка прошлого, которая с настоящим достаточно хорошо связана. Поэтому я думаю, что филологи, культурологи, философы, конечно, книгу прочитают, кто-то ее покритикует, но у кого-то она вызовет профессиональный интерес и дискуссию.
Вообще, эта книга адресована тем, кто готов к сложному диалогу. Широкому читателю, привыкшему к простым рецептам, будет сложно. Опасность в том, чтобы не свести мысль Видовича к упрощенному лозунгу: «в конце все будет хорошо». Нет, его философия утверждает, что победа («превосхождение») возможна не автоматически, а только при нашем личном участии, когда мы становимся соучастниками мистерии, а не пассивными зрителями драмы. Именно такое, активное и осмысленное, включение в жизнь и возвращает ей утраченное содержание.
Источник
Богослов.RU

Комментарии