- Научные статьи
Патристика и постмодерн: преодоление разрыва
Опубликовано: 05 декабря 2025
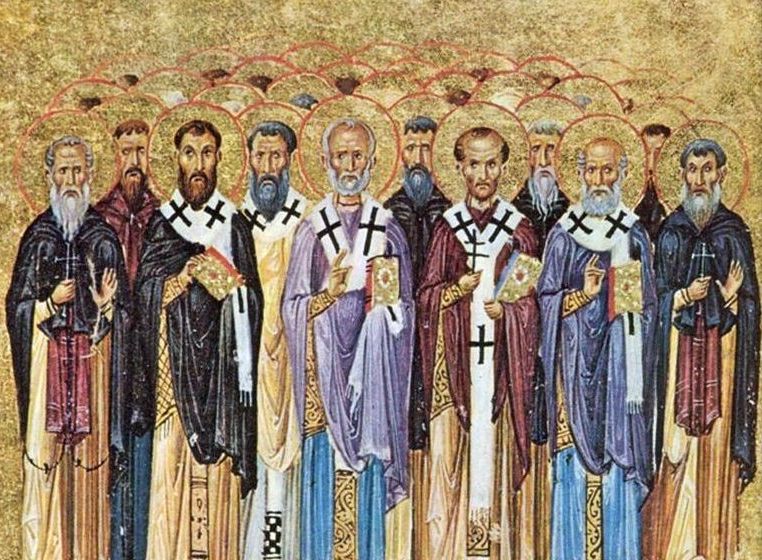
В XXI в. во многих странах патристика как предмет изучения находится в кризисе. Стремительно растущий секуляризм в западном мире, агрессивное влияние различных бизнес-ориентированных образовательных моделей, глубокое недоверие к институциональным формам религии в связи с общенациональными скандалами, связанными с сексуальным насилием, фундаменталистские движения — лишь некоторые социальные и политические факторы, которые в совокупности оказывают негативное влияние на ситуацию. В данной статье автор стремится показать, что на самом деле эти же самые факторы предоставляют возможность для формирования живого отклика в этой области богословской науки, особенно на фоне возможности продемонстрировать актуальность и жизнеспособность патристики для властных структур, общества в целом, университетской и образовательной среды. Подобное видение проблемы ставит вопрос о будущем патристики не только в Европе, Соединенном Королевстве и Северной Америке, но также в Азии и странах Глобального Юга.

Комментарии