- Научные статьи
Кто такой современный академический богослов и при чем тут богословский метод?
Опубликовано: 19 февраля 2026
Источник
Польсков К. О. Кто такой современный академический богослов и при чём тут богословский метод? // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2025. Вып. 122. С. 11-27. DOI: 10.15382/sturI2025122.11-27
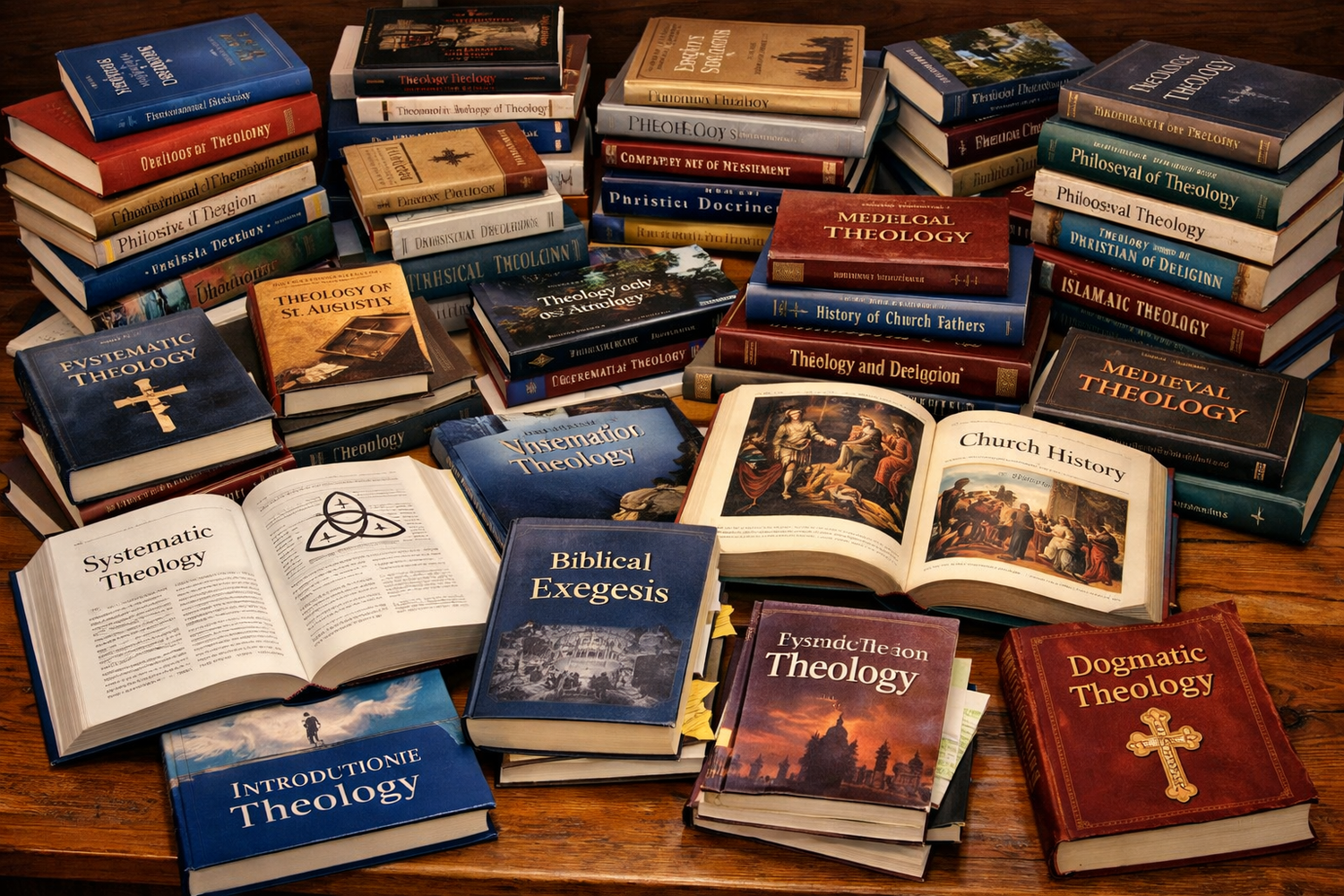
Следствием повсеместного возвращения религии в общественное пространство во второй половине прошлого века стало особое внимание к осмыслению вопросов, связанных с религиозной проблематикой. В современной гуманитаристике этим напрямую занимаются по крайней мере три самостоятельные научные специальности: философия религии, религиоведение и академическая теология[1], каждая из них в рациональных категориях изучает различные аспекты религии и религиозной жизни сообществ и конкретных людей. При этом круги Эйлера, которыми можно было бы их представить, в значительной части пересекаются, что, конечно, лишь добавляет остроты спорам о взаимных границах и эпистемологической самостоятельности этих научных специальностей.
В силу известных объективных причин в российском академическом пространстве эта проблема систематически стала рассматриваться лишь несколько десятилетий назад. За это время отечественными исследователями предприняты значительные усилия, для того чтобы дать «авторский взгляд на соотношение и взаимное опосредование религии и основных форм и направленных на нее рефлексивных практик: богословия (теологии), философии религии, религиоведения»[2]. Научной общественности представлен ряд оригинальных идей по вопросу о теоретико-методологических границах и взаимном «суверенитете» этих трех областей научного знания.
За прошедшие десятилетия процесс институционализации теологии в нашей стране также ознаменовался важными достижениями: сложилась система высшего теологического образования, начали защищаться признаваемые государством диссертации, возникли и продолжают появляться новые научные теологические журналы, образовались отдельные научные школы, были изданы заслуживающие внимания монографии. Но при этом именно академический статус теологии в российском контексте по-прежнему требует осмысления. Кроме того, нашим теологам до сих пор так и не удалось решить одну очень важную задачу — сформировать широкое и компетентное ученое сообщество, которое могло бы выступать гарантом высокого научного уровня проводимых теологических исследований[3]. Здесь и философы, и даже религиоведы по-прежнему имеют заметную фору. Но ведь без анализа того, что удалось сделать, без качественной экспертной оценки, непременным условием которой является наличие такого академического сообщества, развитие теологии в России и дальше будет испытывать большие трудности.
Важнейшим шагом на пути преодоления указанной ситуации является осмысление того, что же 30 лет спустя после появления в отечественном академическом пространстве представляет собой богословие/теология. Здесь принципиальными являются два момента. Первый — тот, с которого началось настоящее рассуждение, то есть отношение богословия с другими близкими научными дисциплинами. Теперь, когда споры конца 90-х — начала 2000-х гг. стихли, продолжает оставаться очевидным, что, как и тогда, на этот вопрос пытаются ответить по преимуществу философы. Об этом наглядно свидетельствует, например, дискуссия, организованная в 2024 г. редакцией журнала «Отечественная философия»[4]. Показательно, что в этом очень содержательном обсуждении, названном его организаторами «Философские проблемы современного православного богословия», принял участие только один богослов. Все остальные — известные российские философы и религиоведы, главная компетенция которых все же не теологическая, а философская. Это совершенно очевидно по содержанию представленных ими текстов. Конечно, такой внешний взгляд на теологию чрезвычайно важен, в том числе и для самих богословов. Им нужно знать и понимать, что с точки зрения коллег у отечественной православной теологии до сих пор отсутствует «современный богословский язык»[5], что она «так и не пробудилась от “методологического сна”»[6], что «современной Русской православной церкви богословы не нужны»[7] и что теология в нашей стране одержима «симптомом нежелания и неумения мыслить»[8], наконец, что «одним из препятствий развитию богословия в России является мощное крыло церковных фундаменталистов, которые и сами не богословствуют, и пытаются мешать другим»[9]. Оценки строгие. Но где же голос самих богословов? Как они реагируют на эту критику? В чем видят свое отличие от философии религии и религиоведения и как оценивают свое сегодняшнее состояние? Какие они ставят перед собой задачи?
Неменьшего внимания заслуживает и второй вопрос: о самоопределении тех, кто называет себя теологом. Старые дефиниции, работавшие все Новое время, больше не обладают объяснительной силой, в связи с этим нужно искать другие схемы и определения. Например, К. М. Антонов говорит о богословии как о «сложной многоуровневой системе мышления»[10], включающей в себя как мистические, так и дискурсивные практики. Такое определение хорошо подходит для энциклопедического словаря, а в реальной жизни им пользоваться трудно. Большим эвристическим потенциалом обладает его же различение философии религии, религиоведения и теологии по принципу противопоставления «общее — единичное» и «должное — сущее»[11]. Оно может апофатически указать на то, чем богословие не является и по какому признаку. Однако при формулировании вопросов катафатических, следуя ему, вряд ли получится понять, что же представляет собой в российском научном пространстве сегодняшнее богословие. Не очень помогает понимание теологии как «науки о вере»[12]. То же можно сказать и о предложенном еще П. Тиллихом самом общем рассуждении о теологии как о способе перевода вечного Откровения Бога на язык конкретной исторической ситуации[13]. Вдохновляюще, но слишком широко!
По-видимому, трудность поиска общей дефиниции связана еще и с тем, что самоопределением «теолог» и «богослов» теперь пользуются очень многие, друг на друга непохожие ученые: от членов церковно-академических корпораций и свободных исследователей до ученых, представляющих светские вузы и «большую» академию. И никто из них, как кажется, не обладает монополией на истину. Соответственно, параллельно существуют различные представления о самой теологии. Но есть ли хоть какая-то общая для всех них родовая специфика? Что их объединяет? В ситуации актуального многообразия, которое к тому же всячески противится внешним попыткам унификации, остается пойти другим путем: не искать исчерпывающее определение, а описать контуры их общего смыслового поля. В нем у разных исследователей могут быть отличающиеся видовые признаки, которые, однако, не мешают им относить себя к единому родовому понятию «теология». То есть можно попробовать задать примерную систему координат, внутри которой работающего в ней исследователя допустимо именовать «богословом». В привычном нам трехмерном пространстве координатные оси теологического универсума могут носить условные названия «что», «как» и «зачем».
Из них самой «размытой», наверное, будет та, которая обозначена местоимением «что». Это связано с тем, что сам по себе предмет исследования не делает работу ученого ни богословской, ни исторической, ни филологической, ни какой другой. Один и тот же предмет у гуманитариев могут по-своему изучать представители различных наук, а богословскому осмыслению (говоря предельно) открыты самые разные предметы. Бурное развитие так называемых «теологий родительного падежа» в последнее время это лишь подтверждает. Однако опыт показывает, что очень многие ученые, занимающиеся богословскими проблемами, в своей работе вопросом об особенностях предмета своего исследования вообще не задаются, возможно, полагая, что при изучении какого-то явления, имеющего своим предметом веру, Церковь, ее историю и практическую жизнь, их труд автоматически становится теологическим. Публикации, поступающие в редакцию научных журналов, или диссертации, подаваемые в теологический диссертационный совет, это, увы, часто подтверждают.
Именно поэтому теологу так важно попробовать отыскать в предмете своего исследования его богословскую специфику, вернее, постараться понять, почему именно он привлек его внимание. Во-первых, потому что, как справедливо указывал А. Милано, «невозможно определить знание иначе, как исходя из предмета знания, а также исходя из метода, посредством которого это знание получено. Предмет и метод тесно связаны»[14]. А во-вторых, еще П. Тиллих ясно определил, что «предметом», которым занимается богослов, может быть лишь то, что имеет для него «предельный» интерес, не в плане его эпистемологического, эстетического, морально-нравственного или любого другого значения, а в том смысле, что им «не может быть что-то из того, что не имеет силы или угрожать нашему бытию, или нести ему спасение»[15]. То есть, по мнению немецко-американского автора, то, что богослов изучает, затрагивает самые глубины его существования и каким-то образом несет на себе и отпечаток смыслов, выходящих за границы этого мира. И чем меньше некое явление вызывает у теолога чувство «предельного интереса», то есть не отзывается в нем тоской по небесному Отечеству (ср. Флп. 3:20), тем менее оно достойно быть предметом именно богословского рассмотрения. Возможно, кто-то скажет, что в таком понимании больше субъективной оценочности, чем объективной данности, но если об этом вопросе совсем не задумываться, то на практике возникают странные пересечения предметных областей, которыми занимаются исследователи, относящие себя к разным научным специальностям.
То, «как» работают богословы, — это и есть вопрос о методе или, вернее, о методологии (совокупности методов) проведения теологического исследования. Если термин «метод» понимать в узком значении, то очевидно, что не только богословы, но представители практически всех гуманитарных наук используют во многом похожий набор инструментов и приемов, то есть специфических операций с исследуемым предметом. По преимуществу это разнообразные способы анализа текста (в его широком понимании), цель которых состоит в извлечении из него различных смыслов, их интерпретации и толковании. При таком понимании в академическом теологическом исследовании могут быть использованы самые разные методы, применяя которые, теолог способен детально проанализировать то или иное явление, выявить его предпосылки и понять контекст, в котором оно зародилось, изучить его историю, динамику развития. Но ведь так же точно поступают и прочие гуманитарии! Может, нужно согласиться с высказыванием прот. П. Хондзинского о том, что богословие «использует в своей работе общегуманитарные методы работы с текстом, ничем не отличаясь… от других наук»[16]? Тогда получится, что никаких специфических «богословских методов» не существует, а есть лишь примененные к источникам веры философские и общегуманитарные методы исследования? Казалось бы, этот вывод однозначно подтверждается разнообразием академических теологических проектов прошлого века. Среди их авторов К. Барт и П. Тиллих в протестантской теологии, К. Ранер и фон Бальтазар у католиков, прот. С. Булгаков, прот. Г. Флоровский, Х. Яннарас, прот. Д. Станилоаэ, еп. К. Уэр, митр. И. Зизиулас у православных. И это краткое перечисление является далеко не исчерпывающим. С одной стороны, упомянутых богословов объединяет то, что все они применяли различные общефилософские и гуманитарные методы исследования, принятые в науке прошлого века, а с другой — у каждого из них был свой, сформировавшийся под влиянием той или иной философской традиции специфический метод, который по-разному апеллирует к церковной норме.
Однако рассмотрение того, как работают теологи, не исчерпывается только этой стороной вопроса. Несмотря на различия инструментальных методов у всех перечисленных богословов (у них и у многих других) можно увидеть нечто общее: то, как они придают своим выводам доказательную силу. Если говорить шире, то речь идет о том, как богословами определяется норма, относительно которой они делают те или иные утверждения. Норма — понятие, имеющее широкую палитру смыслов. Это и образец, и предписание, и тот идеал, к которому надо стремиться. Ее можно рассматривать статически и динамически. Норма понимается по-разному в различных срезах познавательной деятельности (онтологическом, методологическом, аксиологическом[17]).
При всем различии конкретных методов работы все теологи будут стремиться фундировать свои выводы источниками и текстами, признаваемыми нормативными религиозным сообществом (Церковью), внутри которого они работают. Эта нормативность может быть названа экклезиологической. Во-первых, по источнику, поскольку такие нормы устанавливаются и принимаются Церковью. А во-вторых, по локализации их применения, так как, переводя Откровение в каноны и правила, они влияют и на бытие всей Церкви в целом, и на жизнь ее отдельных членов, часто при этом не обладая никаким специфическим статусом для внешних. Именно церковный авторитет придает им силу «аксиом духовной жизни», а некоторые из них утверждаются Церковью в качестве догматических истин и общеобязательных для верующих принципов. Среди таковых нормативных источников первостепенное значение имеет Слово Божие, Священное Писание. В течение первого тысячелетия само богословие понималось именно как форма толкования Библии. Так, Ив Конгар пишет: «До конца двенадцатого века теология в своей основе, скажем честно, является исключительно библейской. Она попросту называется sacra pagina или sacra scriptura»[18]. В старых латинских текстах Библию называли Norma normans sed non normata, то есть нормой, которая определяет другие нормы, а сама не определяется ими. А об отходе богословия от своего базового библейского измерения (sacra pagina) и превращении его в «историю доктрин» (sacra doctrina) как одной из самых больших проблем теологии Нового времени пишут многие исследователи[19]. Близким статусом для теологов обладают решения Вселенских и ряда поместных соборов, высказывания отдельных отцов, признаваемых если не всеми, то большинством верующих.
Но эта особая нормативность Писания и того, что можно назвать «ядром» Предания, не препятствует академическим богословам обращаться и к иным регулятивным принципам, фундирующим их выводы. Но таковые, в отличие от первых, не носят всеобщего характера и чаще всего бывают связаны с той или иной философской системой. Их объединяет то, что при всем их разнообразии они отвечают требованию рациональной обоснованности, внутренней когерентности и выражаются на языке какой-то философской традиции. Примером таковых являются упомянутые выше авторские методологии теологов прошлого века. Этот тип нормативности, в отличие от первого, можно назвать по преимуществу рациональным, что, конечно, не означает, что экклезиологическая нормативность рациональности лишена. В. К. Шохин даже предлагает развести на терминологическом уровне по этому признаку различные дискурсивные практики, в которых преобладает тот или иной вид нормативности. «У меня, — говорит он, — “богословие” ассоциируется в первую очередь с решением “божественных вопросов”, исходя больше из соборного разума, разума Предания, и лишь во вторую — с разумом индивидуальным (больше — с мистическим видением вещей), тогда как в случае с “теологией” корреляция выстраивается противоположным образом… “теология философов” (центральная, пожалуй, в этой схеме) опиралась на рациональность, а не на авторитет, а в христианстве основные, догматические истины являются сверхразумными»[20]. Однако в научных публикациях последнего времени про тип нормативности богословского высказывания и его влиянии на формулируемые выводы рассуждают, к сожалению, мало.
Можно еще добавить, что в первом случае ссылка, подтверждающая то или иное утверждение, практически всегда ретроспективна (обращена к уже существующему авторитетному источнику, признаваемому таковым сообществом верующих или Церковью), во втором — в значительной мере проспективна (не исключает будущего развития, часто отличного от конфессиональных норм). Речь не идет о догматическом развитии в том виде, как об этом учит, например, магистериум Католической Церкви, ведь академическая теология не «развивает» существующие и не «создает» новые богословские системы. Будущему развитию и уточнению открыты в данном случае те нормы, которые теолог конструирует сам или заимствует из внешних по отношению к Церкви источников.
На практике каждый богослов в своей работе руководствуется и теми, и другими нормами, но мера их сочетания у всех различна. Для одних ретроспективное обращение к признаваемой Церковью норме будет апелляцией к «правилу веры», от которого нельзя отступать, для других отсутствие иных, кроме Писания и Предания, регулятивных норм будет означать «опасность закрыться в конфессиональной теологии»[21] и отказаться от каких-либо богословских новаций.
С другой стороны, хотелось бы избежать излишнего упрощения по типу «конфессиональный/церковный» vs «философский». Во-первых, совершенно очевидно, что в любой своей форме теология будет обращаться к языку философии и к различным философским идеям. Во-вторых, «мера» философичности у разных авторов может сильно различаться, в том числе в разные периоды их творческой биографии. Богословов, представляющих какую-то церковно-академическую корпорацию, континентальных теологов и сторонников аналитической теологии лучше сравнивать не только по тому, «насколько» они используют философские идеи, а по другим основаниям. И в-третьих, именно в силу того, что тема языка богословия, в том числе и философского, имманентна любому рассуждению о теологии, она не продвинет нас по пути решения того вопроса, который был сформулирован в самом начале: как различающиеся типы дискурса могут быть объединены родовым определением «богословский». Поэтому на данном этапе в целях описания предлагаемой трехмерной «системы теологических координат» о языке богословия речь не идет. Об этом надо говорить обстоятельно и отдельно. На данном этапе достаточно лишь обозначить признаки, маркирующие различные теологические традиции, и через это обрисовать примерные контуры общего богословского пространства на уровне, обозначенном местоимением «как». Преобладающий тип нормативной ссылки как раз и является одним из таких признаков.
Наконец, можно попытаться сказать несколько слов о координатной оси «зачем». Еще раз вспомним, как П. Тиллих настаивал на том, что даже на предметном уровне у богословской работы есть особенность, которая некоторым образом ее маркирует: то, что «имеет силу или угрожать нашему бытию, или нести ему спасение». Так же и на уровне «как», если не сводить методологию богословского исследования только к набору правил работы с текстом, можно увидеть некоторые особенности, о чем было сказано выше.
Все становится гораздо более ясным и очевидным при переходе на уровень «зачем», хотя и тут есть различные варианты ответа. Если теолог принимает учение Церкви как норму, а свою работу осознает как особую форму церковного служения, то будет стремиться усмотреть, как в том, что он исследует, действует спасительный Божественный Промысел. А например, цель главного сочинения по «слабому богословию» Дж. Капуто формулируется им самим совсем по-другому. Она предельно кратко изложена в завершающей его труд «молитве неведомому Богу»[22]. Этот текст далек от догматического учения какой-либо церкви (в том числе Католической, к которой он принадлежит). Но все же в ней Капуто, со всей силой своей веры вслушиваясь в «настойчивый грохот грядущего царства», апокалиптическим возгласом «Ей, гряди!» призывает «наступающее событие»[23]. То есть даже во внеконфессиональном богословии (если оно осознает себя именно формой богословия) искомый идеал лежит за пределами здешнего мира. Его целеполагание не ограничивается только философской, исторической или филологической рефлексией над источниками веры, исследованием их формы, истории или актуального состояния.
Значит, какой бы предмет ученый ни изучал, какими бы общегуманитарными, философскими или любыми другими методами он ни пользовался, как бы ни обосновывал доказательность своих аргументов, какую бы личную позицию относительно церковного авторитета ни занимал, если он работает как богослов, его не может не интересовать вопрос о том, какое место изучаемое им явление, исторический памятник, традиция, история той или иной институции занимают в поле духовного напряжения между их исторической актуальностью и тем, чем они призваны быть в эсхатологическом свершении. Теолог должен стремиться узреть в земном то, что «просвечивает» сквозь него светом вечности, усмотреть в том, что он исследует, определенную динамику приближения или удаления от того образа, к которому его призывает Бог. Образ этот, как говорит фон Бальтазар, «понимается… не как данность нынешней человеческой ситуации, а как эсхатологическое осуществление изначально заложенной в мире внутренней структуры»[24]. В этом нельзя не увидеть перекличку с той новозаветной максимой, которую сформулировал еще ап. Павел: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18). И не является ли именно такая сотериологическая устремленность, особо ярко ощутимая на исследовательском уровне «зачем», существенным признаком любого извода богословия?
Она может по-разному проявляться не только у теологов «церковных» и «философских», но даже и во вполне соположенных примерах. Ее легче увидеть в работах по систематическому богословию, хотя и здесь требуется исследовательское усилие, чтобы сотериологическое содержание изучаемого явления показать, не преступая границ научного богословия. Наверное, сложнее это сделать в рамках исторической теологии. Но совсем без того, чтобы обозначить, в какой мере «Божественное содействие есть фактор исторической ткани»[25], и здесь не получится. Иначе работа исторического теолога станет своего рода «духовной археологией». Можно вспомнить, как об этой исследовательской задаче церковного историка писал прот. И. Мейендорф. Он считал, что призвание богослова-историка состоит в том, чтобы уловить и предъявить миру, что «Бог, превосходящий историю и, разумеется, не ограниченный ее законами, вместе с тем являет Себя в исторических событиях, которые затем приобретают нормативное и потому надысторическое значение»[26].
В связи с этим необходимо сделать одну очень важную оговорку: выполняя работу по выявлению сотериологических смыслов изучаемого явления, теолог не должен превращаться в «профессионального» оракула и брать на себя обязанности делать конкретные выводы о «спасительности» исследуемого им явления. Это, конечно, не задача ученого. Такие утверждения никак не могут быть верифицированы с помощью научного аппарата или коммуникативных процедур. А окончательные ответы о спасении даются не методами научного исследования. Это уже вопрос веры, личного выбора и признания или отвержения таких выводов Церковью. Но теолог своей работой должен обеспечить тех, кто обращается к его исследованию, научно достоверной информацией о том, насколько предмет его изучения соответствует или, наоборот, не соответствует принятому в сообществе верующих (Церкви) нормативному представлению о спасении.
Проведенный анализ того, что же сегодня определяет специфику академической теологии, был бы неполным без еще двух моментов: без упоминания о том, что можно назвать ее основой, и без анализа особенностей ее метатеоретического уровня.
Той исходной предпосылкой, которая влияет на специфику всего теологического познания, является ее опытный характер, вытекающий из предшествующего всякой богословской рефлексии религиозного обращения. К. М. Антонов даже полагает, что «феномен религиозного обращения играет в становлении рефлексивных структур (не только в теологии, но и в философии религии и религиоведении. — Прот. К. П.) и практик роль своего рода катализатора», являясь базовым для религиозной жизни и ее рационального осмысления[27]. Основания такого понимания заложены уже в евангельских словах Христа: «Не Вы Меня избрали, а я Вас избрал» (Ин. 15:16). Ап. Павел, в свою очередь, утверждает, что желание познать Бога — это, по сути, ответ на предшествующий такому желанию акт призвания и свершившегося обращения: «[Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3:12). Об этом прекрасно свидетельствует пример Б. Лонергана: часто считают, что как методолог теологии он в большей мере был «сконцентрирован не на том, чему учит теолог… а на том, что делает богослов, какие операции он выполняет, когда богословствует»[28]. А современники даже укоряли его в том, что «теологическая методология Лонергана кажется… столь общей, что она подходит к любой науке, поскольку это не методология теологии как таковой, а только самая общая методология науки в целом, проиллюстрированная некоторыми примерами, взятыми из теологии»[29]. Но если внимательно перечитать его главный труд, то становится совершенно очевидным, что и для него богословие было немыслимо без предшествующего опыта религиозного обращения. Лонерган в качестве идеала предлагает ситуацию, «когда основанием теологии в целом служит обращение, когда религиозное обращение становится тем событием, в котором имя “Бог” обретает свой изначальный и фундаментальный смысл, когда систематическая теология не мнит себя способной исчерпать или хотя бы адекватно понять этот смысл, тогда сделано многое, чтобы удержать систематическую теологию в гармонии с ее религиозными истоками и целями»[30]. Именно поэтому отец Бернар предупреждал об опасности появления безопытного богословия: «Систематическая теология способна становиться безрелигиозной; это особенно верно, когда ее основной упор делается не на обращение, а на доказательство»[31]. Похожая мысль о связи научного богословия с религиозной (церковной) жизнью встречается у многих других современных теологов, вне зависимости от того, к какой традиции они себя относили. Одним из ярчайших по своей метафоричности выражений этой мысли являются слова прот. Сергия Булгакова о том, что «богословие надо пить со дна евхаристической чаши»[32]. Чем меньше у теолога-исследователя такой опытности, тем больше он будет приближаться к чисто философскому способу познания изучаемого явления.
С другой стороны, для богословия, в свете вышесказанного, особенно важна одна черта, характерная для всех гуманитарных дисциплин: стремление не только (и может, даже не столько) познать сущность изучаемого, сколько предложить понимание и собственную оценку заключенных в нем смыслов. Поскольку такая операция всегда производится с определенных мировоззренческих оснований, для богослова необходимо ясно понимать, что же предопределяет его научную позицию и направляет его исследовательский интерес. В начале 2000-х, когда шли бурные дискуссии о возможности появления теологии в ареопаге отечественных научных специальностей, вопрос о предпосылочности богословия и возможности/невозможности аксиологической нейтральности теологического знания для ряда ученых был своеобразным камнем преткновения. Достаточно вспомнить, как Е. С. Элбакян обосновывала защищаемый ею тезис об отказе от признания за теологией научного статуса: «У меня нет уверенности в том, что научная диссертация, если она выстроена в объективистском ключе, сможет быть защищена в теологическом совете, который предполагает наличие у диссертанта определенной мировоззренческой позиции. То есть сколь угодно долго говорить об аксиологической нейтральности теологии, конечно, можно, но разговор такого рода, на мой взгляд, лишен практического и теоретического смысла»[33]. Наверное, теперь, когда сама жизнь опровергла такого рода идеи, можно было бы их и не вспоминать. Но именно в дискуссии с ними проблема «теоретической нагруженности» теологии (если говорить в терминах М. Полани) или богословского предпонимания (если рассуждать в традиции герменевтики) и их влияния на работу теолога получила свое осмысление. Задача любого добросовестного ученого (в нашем случае — теолога) заключается не в том, чтобы в угоду принципам «чистой науки» (самим по себе весьма идеологизированным!) отказаться от своих убеждений и веры, а в том, чтобы эти предпосылки отрефлексировать, открыто предъявить научному сообществу и постараться сделать так, чтобы они автоматически и некритически не предопределяли выводов академического исследования. Именно для этого ему и нужно ясно понимать не только теоретические основания своей научной богословской работы, но и то, что теперь называют ее метатеоретическими предпосылками[34]. А это предполагает ясное осознание того, какую картину мира ученый принимает как исходную и каких идеалов и норм он придерживается.
Если данные принципы соблюдаются и честно предъявляются научному сообществу, то вопрос о «цеховой» принадлежности богослова теряет свою обостренную полемичность. У одного ученого-теолога может быть конфессионально обусловленный исследовательский подход, исходящий из «опыта церковности, как единства веры и жизни»[35], внутри которого он принимает «позицию Церкви как свою собственную»[36], а у другого, как, например, у упомянутого выше Дж. Капуто, преобладающим является стремление превзойти «конфессиональную веру или формулу вероучения»[37]. Такое самоопределение — это вопрос личного выбора, без которого невозможно обойтись, ведь картина мира, из которой исходит ученый (а значит, и теолог), те идеалы и нормы, которых он придерживается, самым решительным образом влияют не только на объем и содержание его предпонимания, но так или иначе отражаются и на его конечных выводах. В дальнейшем стоило бы задуматься о том, в чем заключается особенность метатеоретических предпосылок именно академического теологического исследования и чем они отличаются от таковых у представителей смежных наук (философии, филологии, истории и проч.)[38]. Отдельного прояснения также требует вопрос о том, какое воздействие метатеоретические представления оказывают на выбор теологом не только типа нормативной ссылки (что более очевидно), но и используемых им методов и принципов научной работы. В случае академической теологии, сочетающей в себе общепринятый этос современной научной работы и связь с религиозной верой, для ответов на эти вопросы требуется особая деликатность.
Итак, можно подвести некоторые итоги. В сегодняшней ситуации актуального многообразия различных научных стратегий, считающих себя теологическими, практически невозможно найти единое и удовлетворяющее всех определение богословия или его единой методологии. Остается довольствоваться обозначением примерных границ общего для них интеллектуального поля.
Такое решение даст возможность в академических дискуссиях о религии избежать того, что Д. В. Матвеев вслед за Г. Б. Гутнером назвал «стратегией колонизации» и «стратегией элиминации». Это касается не только отношений теологии с философией религии и религиоведением, но и разных типов собственно теологического высказывания. В научной среде лучше подходит «стратегия взаимодополнения», то есть «признание принципиальной взаимной несводимости различных теологических (добавлено мною. — Прот. К. П.) дискурсов и их систем понятий или концептов, но одновременно возможности совместного прояснения предметов и явлений с разных сторон в концептах разных дискурсов, а локально — возможно, и выработка совместных концептов и процедур»[39]. Как писал Г. Б. Гутнер: «Нам не стоит искать универсального единства, основанного на вечных принципах. Это, однако, не значит, что мы обречены на дезинтеграцию и безнадежный релятивизм»[40].
Впадения в них позволяет избежать осознание того, что современное академическое теологическое пространство многомерно. Его границы задаются вопросами, что изучает богослов, как он это делает и зачем принимается за свою работу. При ответе на них возможны многочисленные варианты позиционирования (и самопозиционирования) того или иного ученого. Ведь делает теологом, а его работу богословской не один уникальный признак, в том числе метод или совокупность методов, а сочетание нескольких параметров, которые в конкретной ситуации могут проявляться по-разному. Тогда становится понятным, что исследовательские традиции, которые часто противопоставляют друг другу, по какой-то из осей «теологических координат», действительно, могут очень сильно различаться, а по другой — наоборот, быть близки друг другу. Не о таком ли различении говорил еще ап. Павел, указывая коринфянам: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19)?
Но при всей многомерности теологического универсума его базовой предпосылкой, как и в религиозной традиции, с которой она исторически связана, продолжает оставаться связь богословия с опытом религиозной жизни, являющаяся следствием пережитого опыта религиозного обращения. Также важно осознавать и учитывать те особенности метатеоретического уровня теологического познания, которые в значительной мере детерминируют и объединяют все прочие составляющие академической теологии.
Список литературы
Антонов К. М. «Как возможна религия?»: Философия религии и религиозные проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX–XX веков: в 2 ч. М.: ПСТГУ, 2020. Ч. 1.
Антонов К. М. Religio et Ratio: Религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления. М.: Изд-во ПСТГУ, 2025.
Антонов К. М. Теология // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/teologiia-ca1a1e (дата обращения: 24.07.2025).
Антонов Н. К. Богословское осмысление свт. Григорием Назианзиным темы священства в социокультурном контексте поздней Античности (на материале Слова 3): дис. ... канд. теологии: 5.11.1 / ПСТГУ. М., 2023.
Вдовина Г. В. Бернард Лонерган: метод в теологии и гуманитарные науки // Философский журнал. 2013. № 2(11). С. 5–18.
Гутнер Г. Б. Секулярность, постсекулярность и русская религиозная философия // Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 2015. № 16. С. 63–82.
Лебедев С. А. Уровневая структура научного знания // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Философия». 2021. № 2 (56). С. 7–20.
Лонерган Б. Метод в теологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010.
Матвеев Д. Посреди единственных истин // Страницы: богословие, культура, образование. 2016. Т. 20, № 3. С. 343–365.
Мейендорф И., протопр. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев: Центр православной книги, 2007.
Милано А. В чем истина: К «критике» теологического разума. СПб.: Алетейя, 2016.
Соловий Р. П. Теопоэтика и теополитика Джона Капуто // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2017. Т. 17, № 3. С. 7–21.
Струве Н. А. Об евхаристическом богословии о. Сергия Булгакова // С. Н. Булгаков: религиозно-философский путь: Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения, 5–7 марта 2001 г. М.: Русский путь, 2003. С. 44–49.
Таланкина М. В. Сотериологический подход в библеистике: постановка проблемы // Христианское чтение. 2024. № 3. С. 27–37.
Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1: Разум и откровение. Бытие и Бог. Т. 2: Существование и Христос. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017.
Философские проблемы современного православного богословия / Антонов К. М., Гагинский А. М., Коначева С. А., Пылаев М. А., Солонченко А. А., Шишков А. В., Шохин В. К. // Отечественная философия. 2024. Т. 2. № 3. С. 55–84.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
Хаджаров М. Х. Норма как предпосылочно-регулятивный механизм научного познания // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 3(164). С. 62– 66.
Хондзинский П., прот. Введение в богословскую традицию. М.: Изд-во ПСТГУ, 2024.
Хондзинский П., прот. Русское внеакадемическое богословие XIX в.: генезис и проблематика: автореф. дис. ... д-ра богословия / ПСТГУ. М., 2015.
Хондзинский П. В. Laientheologie или христианская философия? // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. № 3 (47). С. 42–59.
Элбакян Е. С. ...Ныне Царство Мое не отсюда // Религиоведение. 2016. № 1. С. 119–132.
Balthasar H. U. von. Kosmische Liturgie: Das Weltbild Maximus' dеs Bekenners. Einsiedeln; Trier: Johannes-Verlag, 1988.
Behr Jh. From Synthesis to Symphony // The Living Christ. The Theological Legacy of Georges Florovsky / John Chryssavgis and Brandon Gallaher, eds. L.: T&T Clark, 2021. P. 279– 288.
Caputo J. D. The Weakness of God: A Theology of the Event. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Congar Y. A History of Theology. N. Y.: Doubleday, 1968.
Rahner K. Some Critical Thoughts on “Functional Specialities in Theology” // Foundation of Theology: Papers from International Lonergan Congress. Dublin, 1970. P. 194–196.
- Здесь и далее под «академической теологией», «теологией» и «богословием» понимается комплекс теоретико-когнитивных дисциплин и научных практик в рациональных категориях, осмысляющих и передающих на языке конкретной исторической ситуации Откровение о Боге, мире и человеке. Это современный извод того, что еще Ансельм Кентерберийский навал «верующей мыслью» (fides quaerens intellectum).
- Антонов К. М. Religio et Ratio: Религиозная жизнь и пути ее рефлексивного осмысления. М., 2025.
- См. об этом: Хондзинский П., прот. Введение в богословскую традицию. М., 2024. С. 80–81.
- См.: Философские проблемы современного православного богословия / Антонов К. М., Гагинский А. М., Коначева С. А., Пылаев М. А., Солонченко А. А., Шишков А. В., Шохин В. К. // Отечественная философия. 2024. Т. 2. № 3. С. 55–84.
- Там же. С. 61.
- Там же.
- Там же. С. 65.
- Там же. С. 66.
- Там же. С. 71.
- Антонов К. М. Теология // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/teologiia-ca1a1e (дата обращения: 24.07.2025).
- Антонов К. М. «Как возможна религия?»: Философия религии и религиозные проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX–XX веков: в 2 ч. М., 2020. Ч. 1. С. 12–24.
- См., напр.: Философские проблемы современного православного богословия. С. 63.
- См.: Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1: Разум и откровение. Бытие и Бог. Т. 2: Существование и Христос. М.; СПб., 2017. Почти аналогичное определение предлагает С. А. Коначева, указывая, что «ключевая задача теологии — расшифровка божественного изречения, перевод языка Бога в категории нашего опыта» (Философские проблемы современного православного богословия. С. 63).
- Милано А. В чем истина. К «критике» теологического разума. СПб., 2016. С. 33.
- Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1. С. 22.
- Хондзинский П., прот. Laientheologie или христианская философия? // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 3 (47). С. 44.
- Подробнее см.: Хаджаров М. Х. Норма как предпосылочно-регулятивный механизм научного познания // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 3 (164). С. 62–66.
- Congar Y. A History of Theology. N. Y., 1968. P. 51.
- Например: Behr Jh. From Synthesis to Symphony // The Living Christ. The Theological Legacy of Georges Florovsky / J. Chryssavgis, B. Gallaher, eds. L., 2021. P. 279–288.
- Философские проблемы современного православного богословия. С. 76.
- Соловий Р. П. Теопоэтика и теополитика Джона Капуто // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2017. Т. 17, № 3. С. 13.
- Caputo J. D. The Weakness of God: A Theology of the Event. Bloomington, 2006. P. 354. P. 354.
- Ibid. P. 353.
- Balthasar H. U. von. Kosmische Liturgie: Das Weltbild Maximus' dеs Bekenners. Einsiedeln; Trier, 1988². S. 57.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 385.
- Мейендорф И., прот. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев, 2007. С. 155.
- См.: Антонов К. М. Religio et Ratio… С. 64.
- Вдовина Г. В. Бернард Лонерган: метод в теологии и гуманитарные науки // Философский журнал. 2013. № 2 (11). С. 16.
- Rahner K. Some Critical Thoughts on “Functional Specialities in Theology” // Foundation of Theology: Papers from International Lonergan Congress. Dublin, 1970. P. 194.
- Лонерган Б. Метод в теологии. М., 2010. С. 378.
- Там же. С. 377.
- Струве Н. А. Об евхаристическом богословии о. Сергия Булгакова // С. Н. Булгаков: религиозно-философский путь: Международная научная конференция, посвященная 130- летию со дня рождения, 5–7 марта 2001 г. М., 2003. С. 44.
- Элбакян Е. С. ...Ныне Царство Мое не отсюда // Религиоведение. 2016. № 1. С. 124.
- См.: Лебедев С. А. Уровневая структура научного знания // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Философия». 2021. № 2 (56). С. 7–20.
- Хондзинский П., прот. Русское внеакадемическое богословие XIX в.: генезис и проблематика: автореф. дис. ... д-ра богословия / ПСТГУ. М., 2015. С. 11.
- Антонов Н. К. Богословское осмысление свт. Григорием Назианзиным темы священства в социокультурном контексте поздней Античности (на материале Слова 3): дис. ... канд. теологии: 5.11.1 / ПСТГУ. М., 2023. С. 18.
- Caputo J. D. The Weakness of God... P. 18.
- Попытка такого прояснения на примере библеистики предпринята в статье: Таланкина М. В. Сотериологический подход в библеистике: постановка проблемы // Христианское чтение. 2024. № 3. С. 27–37.
- Матвеев Д. Посреди единственных истин // Страницы: богословие, культура, образование. 2016. Т. 20, № 3. С. 344.
- Гутнер Г. Б. Секулярность, постсекулярность и русская религиозная философия // Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 2015. № 16. С. 80.
Источник
Польсков К. О. Кто такой современный академический богослов и при чём тут богословский метод? // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2025. Вып. 122. С. 11-27. DOI: 10.15382/sturI2025122.11-27

Комментарии