- Научные статьи
Теология религий: начальный период
Опубликовано: 25 августа 2025
Источник
Шохин В. К. Теология религий: начальный период // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2025. Вып. 118. С. 31-52. DOI: 10.15382/sturI2025118.31-52
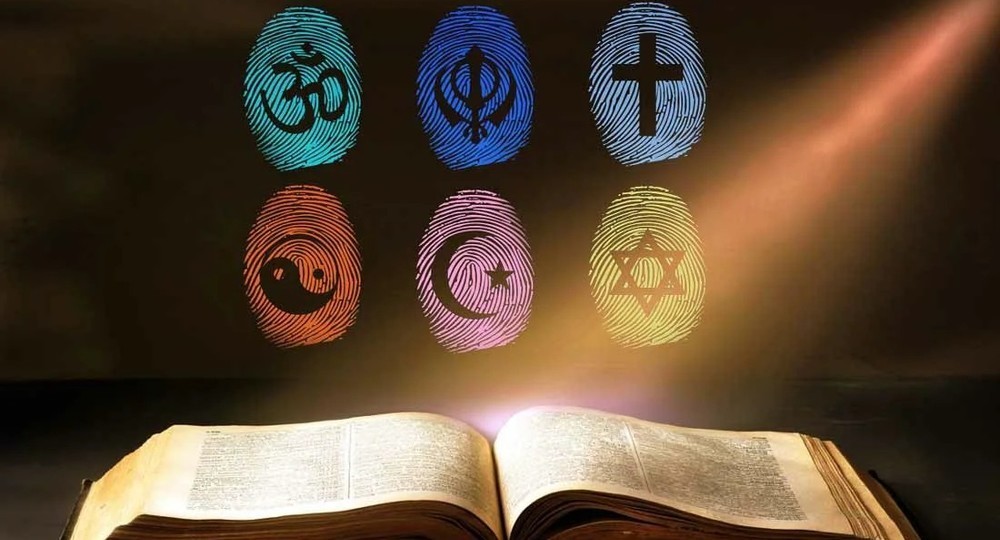
«Теология религий» (theology of religions, далее — ТР) как самоосознающий дискурс стала входить в негласный куррикулум теологических компетенций лишь со второй половины ХХ в., но в настоящее время переживает подлинный бум, притом как в англо-американском, так и в «континентальном» философско-теологическом поле. Об этом свидетельствуют хотя бы серия «Исследования по теологии религий», выходящая с 2005 г. в Цюрихе (Б. Бернхарндта и Г. Шмида)[1], и лавинообразный рост «несерийных публикаций». Выходили и опыты ее историографии, которые интересны сами по себе — как позиционирование воззрений авторов, но не как истории дисциплинарного теологического направления, поскольку сама его авторефлексия в них не была заложена[2]. За исключением одной (по моим, конечно, прикидкам) публикации, ТР не стала еще предметом специального внимания отечественных исследователей[3]. Тем, кто знаком с этим словосочетанием, известно: данное направление мотивировано тем, что принято называть «вызовом» христианству со стороны все более распространяющихся на его исторических территориях религий. Задача заключается в том, чтобы помочь христианству найти современный (этот момент более всего акцентируется) способ видения и их, и самого себя в их зеркале, а перспектива — в том, чтобы сформировать такой подход к корреляции религиозного «своего» и «чуждого», который мог бы фундировать современный опять-таки модус межрелигиозного диалога. Это почти совсем правильно. Но вот с критериями периодизации истории этого дискурса еще специально не работали.
Два периода
В приведенной характеристике обсуждаемого дискурса, как уже было отмечено, почти всё правильно, но «почти» все-таки еще не «всë». Мотивирующие его «вызовы» приходили и приходят не столько извне — от других религий, сколько изнутри. Христианские мыслители, вовлеченные в него, в отличие от мусульманских, буддистских, индуистских, джайнских и других, с определенного времени — после Второй мировой войны и особенно II Ватиканского собора — стали заботиться не об обращении иноверцев, а о том, как они выглядят в их глазах, а еще больше о том, чтобы смотреть их глазами на себя. И здесь несомненна уникальная специфика, так как в инорелигиозной среде сопоставимые по объему потребности не наблюдались и не наблюдаются. К этому целесообразно будет вернуться ниже, а сейчас достаточно отметить, что теологическая обеспокоенность за себя в глазах «религиозного другого», неотделимая от, как правило, критического пересмотра собственной истории в духе автокульпабилизации[4], прошла, на мой взгляд, уже одну стадию, а в настоящее время все более проходит следующую. Это не значит, что отношение к этому другому, точнее к другим, не было мотивировано совершенно легитимными и востребованными для теоретической теологии интенциями, среди которых следует выделить уточнение природы Откровения и спасения, — уточнение, без которого невозможно обратиться к вопросу об истинности других религий (если, конечно, не считать, что все одинаково истинны по определению). Однако различение двух больших периодов обосновывается не столько способами решать эти вечные и базовые для теологии вопросы, сколько другим: в какой степени христианское диалогическое самосознание смещается в другую сторону от «самоцентрирования».
С формальной точки зрения, хорошей периодизационной границей между начальным периодом истории ТР и следующим можно вполне поставить тот поворотный момент, когда она стала прочно ассоциироваться с рефлексией над тремя большими модальностями отношения к религиозному другому. С 1980-х годов они начали прочно идентифицироваться в ТР как эксклюзивизм, инклюзивизм и плюрализм, и эти термины стали употребляться не столько как классификационные, сколько как оценочные. ТР и стала теологией вокруг этой «большой триады», введенной именно в качестве триады Джоном Харвудом Хиком. Следовательно, ранний период ТР — тот, который предшествовал ее «инаугурации». Это, однако, не значит, что и «материя» трех этих модальностей появилась одновременно с их терминологической «формой». Более того, само ее «оформление» не получило бы такой решающий вес без предшествующих подступов к нему, и на них мы обязательно обратим внимание.
Версии и редакции христианоцентризма
Правильнее всего здесь, как и в других аналогичных случаях, попытаться прежде всего выяснить, кто вербализовал первым обсуждаемое словосочетание и когда это произошло. В единственной отечественной обзорной публикации со ссылкой на англоязычную указывается, что это сделал итальянский теолог В. Бублик[5], однако идентификация чешского богослова и священника Владимира Бублика (1928–1974) в качестве итальянского бросает тень сомнения на эту «второисточниковую» информацию. Зато есть реалистичные подозрения, что именно германский ум, который вследствие своей структурной систематичности был более всего склонен к картографированию теоретических полей, должен был и здесь отвечать за терминологическое нововведение. И в самом деле, из очень обстоятельной монографии американского католического священника и богослова Пола Ниттера, который в то время был еще ортодоксальным христианином (став впоследствии ближайшим сподвижником Хика), «К протестантской теологии религий: ситуационное исследование Пауля Альтхауса и современных направлений» (1974), а конкретно из его детальной библиографии вопроса, можно осторожно предположить, что первая по хронологии терминологизация искомого понятия (die Theologie der Religionen) была осуществлена в небольшой статье одного из многочисленных последователей «второватиканского» либерализма в отношении к нехристианским религиям И. Финстерхëльцля «К теологии религий» (1965)[6]. Правда, был уже совсем недавний прецедент терминологизации теологии истории религий[7], но это было только приближение (хотя и значительное) к обсуждаемому понятию.
Правда, de facto то, что тематически соответствовало ТР, разрабатывалось и столетием раньше. А именно: выделившаяся тогда в системе того же католического богословия прежде всего учебная фундаментальная теология (Fundamentaltheologie) включала три основных раздела — учения о превосходстве религии над атеизмом, о превосходстве христианства над другими религиями и о превосходстве католицизма над другими христианскими конфессиями, и второй из них вполне соответствовал ТР[8]. Но были и два существенных отличия от нее: во-первых, та «теология религии» не обособлялась от «основного богословия»; во-вторых, и это еще важнее, это была чисто апологетическая «поддисциплина», в которой абсолютное превосходство христианства над другими религиями и в истинности, и в спасительности только преподавалось, а не проблематизировалось.
То, что терминологизация ТР состоялась почти сразу после II Ватиканского собора, вполне закономерно. Еще до него в католическом богословии открылась новая страница в теологическом осмыслении корреляции христианства с другими религиями. Речь идет о знаменитой концепции анонимных христиан (die anоnymer Christen) Карла Ранера, вызвавшей острый богословский интерес, а позднее и достаточно острую дискуссию. Судя по новейшим библиографическим изысканиям, впервые это словосочетание было употреблено Ранером в его дискуссии (с богословами и пасторами Л. Соукупом и Г. Молином) о том, как христианство должно относиться к ветхозаветному закону — в том контексте, что «последнее предстояние человека перед Богом извне и в собственной рефлексии не может быть квалифицировано однозначно. Самоочевидно, что есть истинные и неистинные экзистенциалисты, как и истинные и неистинные христиане. Если же человек истинен, призван Богом и истинно отвечает на этот призыв, то он уже является анонимным христианином (ein anonymer Christ)»[9]. Поскольку этот «триалог» был опубликован уже в 1947 г., можно констатировать, что первый прецедент употребления этого сочетания может без труда датироваться временем несколько более ранним.
Сама же эта концепция развивалась через цепочку суждений, напоминающую трехчленный силлогизм. Первой посылкой его было согласие с апостолом Павлом в том, что Бог хочет спасения всем людям без исключения (1 Тим. 2:4). Вторая посылка состояла в том, что должно быть «примирение» двух положений: что Бог действительно этого хочет (и спасение возможно только во Христе) и что есть всячески достойные спасения люди, до которых христианское благовестие не дошло. Заключение же состояло в том, что эти люди могут быть спасены во Христе, и не получив благовестие о Нем, и не будучи обращенными в религию, основанную на этом благовестии. При этом, как считают некоторые исследователи, внутренний монолог Ранера не прошел мимо того, что на Суде те, кто возлюбил людей, идут в жизнь вечную (как и те, кто проявил себя по-другому, — в муку вечную), согласно Евангелию (Мф. 25:36–41), а любовь к людям в христианском видении неотделима от любви к Богу, из чего следует, что «Иисус Христос “нетематически” и бессознательно становится объектом любви в каждом действии любви к ближнему»[10]. На этот «богословский силлогизм» наложилась рецепция Ранером хайдеггеровского философского понятия «сверхъестественный экзистенциал» (übernatürliche Existential)[11], в соответствии с чем каждый человек a priori, в согласии с экзистенциальным предназначением своей природы, «открыт для воздействия благодати, сверхприродной, сообщающей внутреннее единство с Богом и само-сообщение [ему самого] Бога», — по формулировке в статье «Христианство и нехристианские религии» (1962)[12], написанной для сборника, который был издан синхронно с первыми заседаниям собора. Это расширенное до анонимности христианство, куда могут быть включены и нехристиане, Ранер понимал как «ищущую христологию»[13].
В скором уже времени данная концепция вызвала энергичную критику, притом с двух противоположных сторон. Г.-У. фон Бальтазар и ряд других традиционалистски мысливших богословов (А. де Любак, И. Метц) сочли, что Ранер понимает христианство слишком «облегченно» и нецерковно. Другие же, как, например, не менее авторитетный Э. Юнгель, отмечали в ней неуважение как раз к другим религиям, «приватизацию» их идентичности[14]. Однако в целом II Ватикан пошел за ним. Об этом свидетельствуют, например, некоторые формулировки «Догматической конституции о Церкви» (Lumen gentium), где представлены сознательно такие положения пропозиции, которые можно понимать весьма двусмысленно, в том числе по-ранеровски[15]. Однако Ватикан пошел и дальше него[16]. В этом убеждает соборная «Декларация об отношении Церкви к нехристианским религиям» (Nostra Aetate), в которой акцент ставится уже не на том, что Христос действует в других религиях, а на единстве христианства со всеми мировыми религиями, закрывая глаза на то, что этому мало соответствует. Так, в индуизме очень высоко оцениваются не только «проницательные попытки философских размышлений» (можно было бы сказать даже, что «проницательными» были не только попытки, но и их результаты), но и его «неисчерпаемо плодотворные мифы» (очень многие из которых имеют «неисчерпаемое» эротико-демоническое содержание[17]); в буддизме одобряется стремление «достичь высшего озарения» не только через «помощь свыше» (которая в контексте этой религии весьма проблематична), но и «собственными усилиями», не упоминая при этом то «незначительное обстоятельство», что в этой религии категорически и последовательно отвергается существование Бога (§ 2); цитируя же апостола Павла в том, что иудеям, с которыми христиан сближают уже наиболее тесные узы, принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти (Рим. 9:4–5), составители документа «не дочитали» это послание, так как Павел очень четко разделяет два модуса отношения Бога к иудеям, когда пишет, что в отношении к благовестию они враги ради вас; а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов (Рим. 11:28), но, скорее всего, решили «округлить» эту дихотомию до второй только ее стороны. При этом было «не дочитано» и то, что при максимальной генетической близости двух религий доктринально они остаются друг от друга на максимальном расстоянии, ибо если Христос для махаянистов может быть одной из проекций Космического Будды, для индуистов является одной из вторичных аватар Вишну, для мусульман — одним из высших пророков, то для ортодоксальных иудеев до сих пор (в том числе и во время составления этого соборного документа) лжепророком, пользовавшимся средствами магии (как бы ни обстояло дело с потребностями межрелигиозного диалога).
Закономерно, что основное полемическое поле в формате ТР образовалось не в католицизме, где господствует принцип вертикали, но в изначально склонном к «вариативности» протестантизме. Ниттер был прав, давая понять, что оно было намечено уже у виднейшего представителя либеральной теологии Эрнста Трëльча (1865–1923), который в своей главной для нашей темы монографии «Абсолютность христианства и история религий» (1902), c одной стороны, настаивал на нежелательности слияния догматического и исторического методов интерпретации религии[18], c другой — провозгласил статус теологии в качестве «служанки религиоведения»: теология должна передать обоснование своих притязаний философии религии, чтобы установить, что есть реальное и ценное в христианстве[19]. По своей «фактуре» оно ничем не отличается от остальных великих религий — как часть общего исторического процесса, оно есть, как и они, «чистый исторический феномен» (а не его сверхъестественная трансценденция), «относительное явление»[20], которое «достоверно несет в себе элементы всех окружающих его религий в своем строении и является cлиянием великих течений эпохи поворота религий (Religionswende)». Оно «нигде не имело характер абсолютной, свободной от исторических обстоятельств и изменений религией». Отчасти в духе Гегеля Абсолют у Трëльча проходит определенные стадии в эмпирической истории религий и действует через откровения в некоторых из них, и их «прорывы» служат конечной цели мира. Но ни одна из них (включая христианство) не может претендовать на эксклюзивность[21]. Правда, Трëльч признает, что именно в христианстве религия достигает высшего уровня личностности и не отказывает ему в «определенной абсолютности» — оно может быть высшей религией для индивида, его лично исповедующего, в плане абсолютной значимости[22].
Эта очевидная и отчасти политичная двусмысленность никак не могла удовлетворить тех, кто, в отличие от Трëльча, был носителем не религиоведческого, а религиозного сознания. Последовала реакция со стороны его прямого антагониста Карла Барта (1886–1968), настаивавшего как раз на том, веру во что подрывал Трëльч, — в «неотмирность» христианства как продукта не историко-культурных взаимосвязей, а трансцендентного Откровения, которое выносило христианство вообще за границы религий как естественно-исторических реалий. При этом Барт пошел настолько далеко в своем направлении, что отрицал значимость для религии всяких человеческих ресурсов для встречи с Богом, вплоть до естественной теологии[23], что и привело к продолжающемуся до настоящего времени расколу в немецком протестантизме[24]. Основные прикидки Барта в связи с нехристианскими религиями были сосредоточены в томе 1/2, § 17 «Церковной догматики» (1938). Любые человеческие попытки познать Бога вне Христа не просто тщетны, но ложны и богопротивны, обращены на «другого бога»[25]. Язычники, как он понимает апостола Павла, не смогли реализовать возможности богопознания ни в малейшей степени[26], и им недоступно даже ощущение греха и Божьего суда. В прямом противоречии с традиционной христианской идеей подготовки человечества к Евангелию швейцарский богослов считает, что все предшествовавшие приходу Христа человеческие стремления к богопознанию были не просто тщетны, но «уклонением от истины на 180°, своенравным и самовластным штурмом неба, безбожием и непослушанием»[27].
Отсюда неудивительно, что, противопоставляя Откровение религиям как попыткам замещения первого, в основе которых лежит «неверие» и «дело безбожного человека» (die Angelegenheit des gottlosen Menschen)[28], Барт, ставя их в тотальную оппозицию единственному Богооткровению в Иисусе Христе, считает в этом сегменте «Церковной догматики», что они должны вызывать отвращение у Бога, будучи путями от Него, а не к Нему[29]. Потому религии надо не совершенствовать, а только устранять. Правда, исследователи находят признаки его «помягчения» и к ним, и к естественному богопознанию в более поздний период[30] (симметрично тому, как Ранер «смягчился» со своим анонимным христианством), однако от упрека в ревности не по рассуждению (Рим. 10:2), особенно в чувствованиях за Бога, он никак освобожден не может быть.
Реакцией на экстремальную позицию Барта и стала, по верному наблюдению Ниттера, позиция Пауля Альтхауса (1888–1966), который ввел понятие праоткровения (Ur-Off enbarung, Grund-Off enbarung), включавшее в себя cамооткровение Бога не только в Иисусе Христе (на чем настаивал Барт), но и в природе, истории, человеческом существовании и осознании как истины, так и греховности. В своем главном труде по догматике «Христианская истина» (1947) Альтхаус отмечал упрощение мысли апостола Павла у Барта, его «христомонистическую узость», а также то, что это «христомонистическое» понимание Откровения обширно противоположно учению Писания и пониманию в нем отношений Бога и человека[31]. Но он оппонировал и релятивизму Трëльча, который «препятствовал» вхождению Трансцендентного в человеческую историю, в том числе и историю религий. Такой срединный подход к другим религиям между Сциллой одной крайности и Харибдой другой, между безоговорочным эксклюзивизмом и симметричным релятивизмом, Ниттер считал «золотой серединой»[32] и преобладающим в протестантской теологии к началу последней четверти ХХ в. «Догматика должна в своем учении о первоначалах, — утверждал Альтхаус, — вопрошать о заключенной в праоткровении божественной истине, которая при всех ее искажениях в [нехристианских] религиях составляет их истинное содержание»[33]. Богу не может быть неприятно (отметим, вопреки Барту — см. выше) обнаруживаемое в них благоговение перед объектами их культов, благочестие, смирение, «терпение в доверии»[34]. А потому и они оказываются причастными праоткровению, хотя оно само «подчинено» высшему Откровению спасения в Иисусе Христе.
Балансирующая позиция была представлена и такой крупной величиной, как Вольфхарт Панненберг (1926–2014), в его ранней и тематической для нашего предмета монографии «Размышления относительно теологии истории религий» (1967). Как и Трëльч, он рассматривает религии в историко-культурном процессе, но близок Альтхаусу в том, что это не последнее слово, которое можно о них сказать в теологическом ракурсе: речь должна идти также и о раскрытии Божественной тайны, которая через все религии действует в мире, иными словами о Божественном присутствии, которое есть Откровение. И это присутствие Бога в религиях представляется для него неоспоримым. Именно в этом контексте Панненберг говорит о «единстве», действующем в религиях, и через них — о «единстве Божественной реальности»[35]. Бог, воплотившийся в Иисусе, предполагается творцом всего будущего как в истории Церкви, так и в нехристианских религиях, а потому и «история религий видится и после времени пришествия Иисуса в качестве истории явления Бога, который открылся через Него»[36]. А в статье «Откровение Бога в Иисусе из Назарета» Панненберг прямо утверждает, что Иисус может быть конечным откровением только в контексте всеобщей истории, ибо в Новом Завете оно предполагает «знание о Боге» среди как иудеев, так и язычников, без чего оно было бы неэффективным и «неосновательным» (unbegründet)[37].
Петер Бейерхаус в уже подводящей промежуточные итоги статье «К теологии религий в протестантизме» обратил внимание на то, что изыскания в ТР пока являются у его единоверцев лишь счастливыми исключениями. Пытаясь же найти баланс в этой области, он склоняется к необходимости заново реабилитировать принципы «только верой» и «только через Христа»[38]. А это требует триполярного понимания религии, в призме которого видятся и человеческое самоотнесение к Богу, и стремление Бога к обращению человека, и область воздействия демонических сил[39]. Этот последний фактор, действующий в религиях, никак нельзя игнорировать, и он обусловливает то, что нехристианские религии в той или иной мере являются противниками Евангелия, а потому их общий негативный вектор никак нельзя не признать.
В том же году появляется статья Э. Файльбуша «Теология религий: обзор одной из тем римско-католической теологии». Она была написана в духе К. Ранера и документов II Ватиканского собора[40].
Но среди протестантов фигурой, как считается, наиболее диалогически настроенной по отношению к нехристианским религиям, был Карл Хайнц Ратшов (1911–1999). В историографии отмечается его близость к Альтхаусу, чья идея прарелигии была как бы основой его собственных рассуждений, хотя он не хотел ее эксплицитно принимать. Вместе с тем он следовал и Барту в разделении христианства и «религий», но далеко не в их конфронтационной корреляции. И христианство, и религии объединяет то, что они осознают первоначальный грех человечества (Grundschuld), устремлены к преодолению смерти новой жизнью, и в этой сотериологической установке состоит их основная тема и возможность диалога[41]. Эта центральная общая «тема» свидетельствует о том, что религии близки к Царству Божьему, а тексты и Библии, и Нового Завета свидетельствуют о возможности этого диалога — возможности, которую в этих текстах мало замечают[42]. Близость эта, однако, имеет свои границы. Если в религиях эта общая цель решается средствами человеческих ресурсов — через исполнение дел закона, то в христианстве человек получает спасение как дар Божий — через веру «sola fi de, sola gratia»[43], и это различие модусов законничества и Евангелия составляет основную грань между ними[44].
Панорамный снимок
Заслугой Пола Ниттера следует считать и то, что он смог представить итоговую панораму протестантских воззрений на корреляцию христианства с другими религиями и сделал это весьма систематично, по пунктам.
1. Всех рассмотренных им теологов объединяет решимость избежать обеих крайностей — и безоговорочного негативизма по отношению к нехристианским религиям раннего Барта, и симметричного релятивистского «разбавления» Евангелия у Трëльча.
2. Все они призывают к новому и серьезному диалогу с иноверцами, большинство из них подчеркивают необходимость обращения при этом к религиоведению и в своих попытках прийти к ТР придерживаются возможности наличия в других религиях той или иной формы откровения. И хотя многие из них избегают говорить это прямым текстом, для них Бог каким-то образом присутствует в этих религиях — в виде боговдохновенного «вопрошания о Боге» (“Fragen nach Gott” у Г.-Г. Фритцше), как Его «про-явление» в них (“Hervortreten” у Ратшова), как Его «действительность» в них (“Wirklichkeit” у Панненберга), как «излучение Божественной славы» (“Strahl gottheitlicher Glorie” у П. Бруннера) и т. д.
3. И все же во всех этих случаях — при учете Оправдания и уникальной спасительной роли Христа — возможность спасения в этих религиях или через них отрицается, или признается, что либо они движимы грехом и стремлением к самоспасению (Фритцше, Бруннер, А. Кимме, Г. Розенкранц, В. Хольстен, Бейерхаус), либо и без этих вердиктов предполагается, что в них нельзя найти спасение (вопреки Ранеру), поскольку в них отсутствует принцип sola fide и нет удовлетворительных ответов на их «вопрошания» (Ратшов, Паннеберг, В. Трильхас, В. Бëльд, В. Дантине, ранний У. Манн, Г.-Ф. Вицедом).
4. А потому нехристиане используют получаемые ими откровения превратно и делают их недейственными в себе, так как подлинное содержание Откровения может быть познано только через Христа — иначе оно остается лишь в области исканий и вопрошаний без получения удовлетворительного ответа[45]. В качестве же эпилога Ниттер предлагает мысленный диалог между католиками (от имени которых он выступает) и протестантами. При этом он различает, в чем католики могут быть «слушающей стороной», а в чем и вопрошающей.
Прислушиваться к протестантским теологам в их рефлексии над нехристианскими религиями католикам следует при их (1) недооценке глубины греха как действующего в мире, так и в религиях, (2) недостаточном внимании к личному участию Христа (даже при христианоцентризме) в спасении человечества (и потому им следует обратить специальное внимание к принципу Альтхауса solus Сhristus), (3) неоправданном разведении общего спасения мира по Божественному плану и специального спасения во Христе, (4) явном снижении внимания к христианской миссии среди нехристиан[46]. Последний момент заслуживал, с точки зрения Ниттера, специального внимания при его взаимосвязи с только что рассмотренными. Ведь если Христос не является на самом деле причиной или подателем спасения, то не стоит ли оставить эти религии в покое с их собственными богоданными выражениями откровения и спасения? И если общий порядок религий есть реально порядок параллельных, независимых путей откровения и спасения, то почему христиане должны побуждать их изменять свои пути?
Вопросы же католиков к протестантским теологам могут касаться тех недомолвок, которыми отличаются их ответы. Ниттер делит их на практические и догматические.
К первым относится в первую очередь вопрос о том, могут ли представители нехристианских религий чувствовать себя полноценными участниками диалога с христианами, если те исходят из того, что нехристиане должны довольствоваться тем, что Божественное присутствие в их религиях может быть в лучшем случае лишь «подготовительным» и располагать только вопросами, ответы на которые есть только у другой стороны?[47] Или, по-другому, должны ли они довольствоваться тем, что у них есть только определенный потенциал, а у другой стороны «актуал»? Еще один риторический вопрос касается того, могут ли теологи, недостаточно изучающие историю религий, выносить компетентные суждения о возможности спасения в них?
Догматические проблемы, а они более серьезные, начинаются с того, каким образом можно примирить всеми признаваемое желание Бога всех спасти и привести к истинному знанию (ср. 1 Тим. 2:4) с ограничением этого желания только в применении к тем, кто слышал евангельское благовестие, и не означает ли утверждение этого ограничения спасительных возможностей в рамках других религий (через которые познаются добро и зло и самотрансцендирование человека) определенного ограничения Божественного всемогущества и благости?[48] Далее, при всей конструктивности различения общего и специального откровения у Альтхауса, можем ли мы, без ущерба для понимания Откровения, различать Откровение без спасения и Откровение со спасением?[49] Остальные вопросы касаются границ применимости понятий Оправдания, греха, закона, христологии в контексте универсальности спасения и диалога религий.
Завершающий же аккорд Ниттера-христианина звучал тогда так: «Для того чтобы понимать религии, мы должны, как было сказано, стараться постичь высоту, широту и глубину тайны Христа и, однако, встречаясь с религиями, вступая в диалог с ними и стараясь понять их, мы хотим в то же самое время быть приводимыми ко все более глубокому проникновению в эту тайну, которая есть центр Евангелия и центр творения»[50].
В преддверии «большой триады»
Из приведенного обзора видно, что хотя «хиковские» модальности отношения к религиозному другому не были еще в дискуссиях рассмотренного периода ни терминологизированы, ни тематизированы, их присутствие в них отрицать невозможно. Неслучайно ранеровская концепция анонимного христианства и Хиком, и всеми, занимающимися темой, была правомерно идентифицирована как очевидный инклюзивизм, а бартовская позиция несла в себе однозначные признаки эксклюзивизма. «Историцистская» линза, сквозь которую Трëльч рассматривал соотношение христианства с другими религиями, обнаруживала явные признаки того, что можно условно назвать релятивизмом, который у Хика не был предусмотрен (но был чуть позже введен как термин его ближайшим последователем-соперником католическим священником Джозефом Ранцо[51]). Зато позиция, выраженная в документах II Ватиканского собора, гораздо больше напоминает плюрализм Хика (вопреки его крайнему нежеланию признавать это, прежде всего по «соображениям конкуренции»). Ведь все три вышеотмеченные оптики в той или иной мере исходили из христианоцентризма, тогда как здесь христианство, по существу, оказывается лишь одной «планетой», вращающейся вместе с другими с теми же правами на истинность и спасительность, что и они, как одна из многих дорог, ведущих в один и тот же «рим». Дальнейший шаг, который можно было сделать на пути этой «децентрализации», — найти новый центр для всей «солнечной системы». Он и был осуществлен на следующей стадии развития ТР Хиком и его последователями.
Однако то была бы уже следующая глава нашей «книги», а пока стоит остановиться на тех претензиях, которые в мягкой форме Ниттер предъявил теологам религий, придерживавшихся, как и он тогда, христианоцентризма. Среди умозрительных протестантских претензий к католикам я бы выделил, в непосредственном контексте ТР, последнюю. Ниттер был совершенно прав: отстаивать одновременно и теологию анонимного христианства, и целесообразность миссии, что предлагал тот же Ранер, достаточно противоречиво. Ведь если целью миссии является приведение иноверующих ко Христу, а среди них много тех, кого Он сам уже и без миссионеров привел к Себе (Ранер не научил нас всетаки, как отделять «анонимных христиан» от «хороших нехристиан», ибо сердобольных людей много и среди последних, а более точные критерии он не предложил), то разве не известно, что лучшее — враг хорошего? Обратил ведь внимание великий индолог Пауль Хакер (1913–1979), который раньше Хика ввел понятие инклюзивизма и даже дал ему дескриптивное определение, точнее которого пока еще не сформулировано[52], на то, что после Ранера католическая миссия в Индии настолько «стушевалась», что стал наблюдаться процесс возвращения новообращенных индуистов к религии отцов[53].
Однако и помимо этих практических последствий учение об анонимных христианах имеет и семантические — очевидное смешение базовых понятий. Хотя в разговорном языке выражения типа «христианский поступок», «христианское терпение», «христианские чувства» имеют оценочное (пусть и основанное на памяти об определенных духовно-этических нормах) значение, словосочетание «христианская вера» имеет значение уже другое — квалификационное, а о том, что именно определенная и сознательно принятая вера в первую очередь конституирует данную религию и считается в ней первым условием спасения, свидетельствуют ее первоисточники[54]. А это значит, что быть христианином, не зная об этом, — примерно то же самое, что быть «анонимным» летчиком, машинистом, дирижером, киносценаристом и т. д. Это, конечно, никак не противоречит тому, что благочестивая и добродетельная жизнь в язычестве может оказаться подготовительной для обретения спасения во Христе (ср. само название известнейшего труда Евсевия Кесарийского «Евангельское приготовление» (314–321), в котором, кстати, подробнейшим образом расписано и превосходство ветхозаветной и христианской религии перед язычеством при объективной оценке всего лучшего, что в нем было), однако между чем-то и приготовлением к нему разница значительная.
Что же касается претензий Ниттера к протестантам, то в первой из них он обнаруживает свою, что и закономерно, типичную для постсоборного католицизма сверхзаботу о чувствах представителей нехристианских религий в диалоге с христианами (см. выше). Но эта сверхзабота в контексте межрелигиозного диалога представляется не совсем естественной. Ведь если этот диалог межрелигиозный, а каждая значительная религия так устроена, что она настроена (если это, конечно, религия, а не религиоведение) на свое превосходство, то каким образом представители других религий могут обижаться на то, что та, с которой они вступают в такой диалог (если он опять-таки именно религиозный, а не политический или общегуманитарный), так же, как и их традиции, может обнаруживать свою религиозность? При этом постсоборный католицизм не выражал (как и сейчас не выражает) ни малейшей озабоченности в связи с тем, что иудеи, мусульмане, индуисты или буддисты в диалоге с ним твердо придерживаются убежденности в своей «абсолютности». И эта установка на то, что при всеобщем равенстве религий другие все-таки «равнее», чем своя, отражается не только в официальных межрелигиозных встречах и решениях[55], но и в литературе вокруг ТР. Наглядным примером являются многочисленные сочинения Ганса Кюнга, весьма авторитетного и популярного (хотя и не совсем ортодоксального) «соборного» и постсоборного теолога, который, в частности, издал целую серию книг, в которых он «диалогизировал» с крупными востоковедами и в которых предлагались конкретные рекомендации, чему христианство должно учиться у индуизма, буддизма, конфуцианства без малейшего упоминания о том, чему они могут учиться у него[56]. Именно эти предложения в духе одностороннего христианского самовоспитания в контексте идеологии политкорректности и получили образную формулировку у одного из ведущих постмодернистов (и католика на свой лад) Джанни Ваттимо, согласно которому призвание современного христианства заключается в том, чтобы стать музеем для других религий[57].
Что же касается других претензий Ниттера к протестантским теологам, уже не этическим, а собственно теологическим, то они заслуживают большого внимания. Вопрос о том, не ограничивает ли могущество и благости Божьей убеждение в том, что только одна религия может содержать в себе полноту истины и спасения, затрагивает, мне кажется, другой — о том, как христиане должны понимать Божественную природу и сами границы своего понимания ее. Если все согласны в том, что они понимают ее (сверх)личностно[58], то тогда надо согласиться и с тем, что христианский Бог может иметь и свободу выбора, по крайней мере не меньшую, чем созданный по Его образу и подобию человек. А если это так, то кто познал разум Господа, кто дает Ему советы? (1 Кор. 2:16). Поэтому вменять Богу допущение избирательности аналогично тому, чтобы вменять Ему несправедливость и за то, что из всех галактик и планет он избрал именно нашу «звездочку» как площадку для производства и органической, и разумной жизни[59]. Это с точки зрения естественной теологии. А с точки зрения теологии богооткровенной можно было бы удивиться тем, кто вменил бы Ему несправедливость, заключающуюся в том, что Он избрал именно «семя Авраамово», а среди его потомков — одно из колен Израилевых, для того чтобы в нем (а не в других) вочеловечиться. Рассуждения заслуживает и другой вопрос — должны ли те присутствия Божественного само-откровения в нехристианских религиях, в виде «присутствий», «проявлений» или «излучений», как несомненно правильно (по причине осторожности) выражались протестантские теологи рассмотренного периода, гарантировать и их спасительность с христианской точки зрения? Мне кажется, что здесь уместна другая параллель с тем, что должна быть критическая масса возгорающихся вещей, чтобы разжегся костер, тогда как их недостаточное количество или дождь вполне могут быть причиной, что он не разгорится. Однако должно быть и еще одно условие для возгорания костра — желание этого у тех, для кого он разводится, а не желание употребить эти материалы для других целей. Поэтому в данном случае, в отличие от только что рассмотренного, следует принять во внимание уже не только Божественную свободу, но еще и человеческую.
Однако участниками изложенных дискуссий в пространстве ТР не был в достаточной мере осмыслен и ключевой вопрос: а что, собственно, означает само спасение в христианском смысле, если, конечно, это именно тот смысл, который принимается за исходный при обсуждении спасительности других религий? Если это спасение от последствий первородного греха и добавлений к нему в ходе каждой человеческой жизни, то говорить о «спасительности» в тех религиях, которые этого не принимают, но мыслят непорядок в жизни человека как восходящий к безначальной сансаре (не имеющей не только начальной точки, но и какого-либо отношения к взаимоотношениям Творца и его свободноразумных творений, или к природным отношениям между людьми и Небом), говорить, например, о возможности спасения в индуизме, буддизме, джайнизме или также в конфуцианстве или даосизме, не выходя за границы смыслов исходных понятий, невозможно. Ведь как может быть спасение там, где спасаться не от чего, а в случае с буддизмом, и спасать некого за отсутствием самого континуального субъекта, замещаемого мгновенными констелляциями динамических элементов-дхарм? Однако и в нехристианских монотеистических религиях, где и первородный грех, и последующая греховность в весьма ослабленном (в сравнении с христианством) смысле признаются, спасения в христианском смысле также быть не может, так как оно достигается хорошими делами и расположениями ума и сердца только при том условии, что уже при жизни достигаются такие личностно «хорошие отношения» с Иисусом Христом, которые имеют возможность прорасти в «еще лучшие» и в вечности[60]. Из этого, конечно, не следует, что добрые и злые индуисты или конфуцианцы могут оцениваться христианским Богом как равные (и, скорее всего, даже вторые должны оцениваться значительно выше, чем такие «христиане», как Ганс Кюнг), так как вряд ли Он может стоять не выше, а ниже человеческих представлений о справедливости. Несомненно и то, что и посмертная их участь должна быть весьма разной (как и добрых и злых христиан), а также можно предположить, что и посмертные блага для первых должны в их пространстве «стратифицироваться», как и для христиан в их пространстве.
Наличие же отдельных Божественных «присутствий», «проявлений» и «излучений» в контекстах нехристианских религий, если отвлечься от степени их сотериологичности в христианском смысле (см. выше), не может, вероятно, вызвать никаких сомнений для христианского сознания, как верно мыслили большинство протестантских богословов рассмотренного периода. Симметричным образом далеко не все, что содержится в Библии как Богодухновенной в целом Книге, является или по крайней мере представляется Богодухновенным, так как человеческий (местами и «слишком человеческий») слой ее текстов не может отрицаться, если мы не примем монтанистскую в своем существе «теорию диктовки»[61].
Из этого следует, что из «большой триады» отношений к инорелигиозному инклюзивизм является наиболее соответствующим тому рациональному — срединному — пути в христианской теологии, которому она следовала вслед за Аристотелем, показавшим, что добродетели располагаются в средних точках между крайностями. Однако само понятие инклюзивизма нуждается в серьезных уточнениях и стратификациях. Подойти к ним будет целесообразнее при рассмотрении следующего периода истории ТР, когда «большая триада» расположится в самом ее центре.
Список литературы
Боррманс М. Павел VI и Иоанн Павел II в диалоге с мусульманами // Новая Европа. 2002. № 15. С. 4–18.
Ваттимо Дж. После христианства / пер. с итал. Д. Новиков. М.: Три квадрата, 2006.
Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм ХХ века: Тексты с комментариями / сост., авт. введения К. Гестрих; пер., авт. вступ. статей К. И. Уколов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 322–364.
Документы II Ватиканского Собора / пер. А. Коваль; богословский консультант о. А. Стричек. М.: Paoline, 2004.
Кочергин В. В. Теология религий: очерчивая территорию // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 17. Вып. 1. C. 103–110.
Лушников Д., свящ. Основное богословие: учебник бакалавра теологии. М.: ОЦАД, Издат. Дом «Познание», 2021.
Трëльч Э. Об историческом и догматическом методах в богословии // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм ХХ века: Тексты с комментариями / сост., авт. введения К. Гестрих; пер., авт. вступ. статей К. И. Уколов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. С. 21–45.
Хромец И. С. Введение в антропологию Карла Ранера. Киев: Дух и литера, 2014.
Шохин В. К. Ганс Кюнг и предлагаемый им проект всемирного этоса // Вопросы философии. 2004. № 10. С. 65–73.
Шохин В. К. Христианство как религия политкорректности в современной Европе // Альфа и Омега. 2008. № 53. С. 216–236.
Althaus P. Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik. 7. Aufl . Gütersloh: Bertelsmann, 1966 (1. Aufl . 1947).
Barth K. Die kirchliche Dogmatik. Bd. 1/2. Zürich: Theologischer Verlag, 1938.
Benz E. Ideen zu einer Theologie der Religionsgeschichte. Mainz, 1960. S. 39
Bernhardt R. Klassiker der Religionstheologie im 19. und 20. Jahrhundert. Historische Studien als Impulsgeber für die heutige Reflexion (Beiträge zu einer Theologie der Religionen 20). Zürich: TVZ, 2020.
Beyerhaus P. Zur Theologie der Religionen im Protestantismus // Kerigma und Dogma. 1969. Bd. 15. S. 87–104.
D’Acosta G. Christian Theology of Religions 7.2 // St. Andrews Encyclopedia of Theology. URL: https://www.saet.ac.uk/Christianity/ChristianTheologyofReligions/1000.pdf.pdf (дата об ращения: 11.01.2025).
Doniger W. O’Flaherty. Asceticism and Erotism in the Mythology of Śiva. Oxford: Oxford University Press, 1973.
Fahlbusch E. Theologie der Religionen. Überblick zu einem Thema romisch-katholischer Theologie // Kerigma und Dogma, 1969, Bd. 15. S. 73–86.
Finsterhölzl J. Zur Theologie der Religionen // Kairos. Bd. 7. 1965. S. 308–318.
Hacker P. Inklusivismus // Inklusivismus: Eine indische Denkform / Herausg. von G. Oberhammer. Wien: Sammlung de Nobili, 1983. S. 11–28.
Hübner S. Die nichtchristliche Menschheit im Licht christlichen Glaubens. Karl Rahners Überlegungen zum Thema “anonyme Christen” // Zeitschrift für katholische Theologie. 2004. Bd. 126. S. 47–64.
Knitter P. Towards a Protestant Theology of Religions: A Case Study of Paul Althaus and Contemporary Attitudes. Marburg: NG Elwert Verlag, 1974.
Küng H. Projekt Welt-Ethos. München; Zurich: Piper, 1990.
Küng H., Behert H. Christentum und Weltreligionen. Buddhismus. München; Zürich, 1999. Gesetz und Wirklichkeit: 4. Internationale Hochschulwochen des österreichischen College / Hrsg. von S. Moser. Alpbach, 1948.
Pannenberg W. Erwagungen zu einer Theologie der Religionsgeschichte // Grundfragen Systematischer Theologie: gesammelte Aufsätze. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967. S. 252–295.
Pannenberg W. Die Offenbarung Gottes in Jesus von Nazareth // Theologie als Geschichte / Hrsg. von J. M. Robinson und J. B. Cobb / Zürich; Stuttgart: Zwingli, 1967. S. 135–169.
Rahner K. Vom Sinn der häufigen Andachtsbeichte // Schriften zur Theologie III. Zur Theologie des geistlichen Lebens. Einsiedeln; Zürich; Köln, 1961. S. 211–225.
Rahner K. Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen // Schriften zur Theologie V. Neuere Schriften. Einsiedeln; Zürich; Köln, 1962. S. 136–158.
Rahner K. Glaube in winterlicher Zeit. Düsseldorf: Patmos, 1968.
Ratschow C. A. Der angefochtene Glaube. Gütersloh, 1957.
Ratschow C. A. Die Möglichkeit des Dialogs angesichts des Anspruchs der Religion auf den Menschen // Evangelisches Missions-Jahrbuch. 1970. S. 110–116.
Runzo J. God, Commitment and Other Faiths: Pluralism vs. Relativism // Faith and Philosophy. 1988. Vol. 5. P. 343–364.
Schwerdtfeger N. Gnade und Welt. Zum Grundgefüge von Karl Rahners Theorie der “anonymen Christen”. Freiburg i. Br.: Herder, 1982.
Stosch K. von. Der Wahrheitsanspruch religiöser Traditionen als Problem interkultureller Philosophie. Philosophische Erkundungen im Spannungsfeld zwischen Theologie der Religionen und komparativer Theologie // Rationalität und Spiritualität / Hrsg. von C. Bickmann, T. Vosshenrich, H.-J. Scheidgen, M. Wirtz. Nordhausen: Traugott Bautz, 2009. S. 203–234.
Troeltsch E. Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte. 2. AufL. Tübingen, 1912.
- С названиями и аннотациями всех выпусков можно ознакомиться на сайте https://www.tvz-verlag.ch/reihe/beitraege-zu-einer-theologie-der-religionen-3/?page_id=1.
- Примером может служить монография Р. Бернхарда (Bernhardt R. Klassiker der Religionstheologie im 19. und 20. Jahrhundert. Historische Studien als Impulsgeber für die heutige Reflexion (Beiträge zu einer Theologie der Religionen 20). Zürich, 2020), где в «классики теологии религий» оказались записаны Шлейермахер, Трëльч, Барт, Тиллих, Ранер, Хик и Панникар. Субъективность данной выборки следует из того, что за ее границами осталось немало имен, которые могли бы (если уж включен Шлейермахер) с теми же основаниями восходить по крайней мере к Гегелю, если не к Николаю Кузанскому.
- Имею в виду: Кочергин В. В. Теология религий: очерчивая территорию // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 17. Вып. 1. С. 103–110.
- Кульпабилизация, как известно, есть вменение кому-то вины. В данном случае вина вменяется себе.
- См.: Кочергин В. В. Указ. соч. С. 105.
- См.: Finsterhölzl J. Zur Theologie der Religionen // Kairos. Bd. 7. 1965. S. 308–318.
- А именно, Эрнст Бенц отмечал, что «самые значительные отправные точки для реального переосмысления христианской теологии истории религий (eine christliche Theologie der Religionsgeschichte), которые соответствуют фактической исторической ситуации, еще и на сегодня были определены Эрнстом Трëльчем» (Benz E. Ideen zu einer Theologie der Religionsgeschichte. Mainz, 1960. S. 39).
- По ранней истории фундаментальной теологии см. весьма информативный небольшой раздел в современном учебнике по основному богословию: Лушников Д., свящ. Основное богословие: учебник бакалавра теологии. М., 2021. С. 20–28.
- Gesetz und Wirklichkeit: 4. Internationale Hochschulwochen des österreichischen College / Hrsg. von S. Moser. Alpbach, Tirol, 1948. S. 252.
- Stosch K. von. Der Wahrheitsanspruch religiöser Traditionen als Problem interkultureller Philosophie. Philosophische Erkundungen im Spannungsfeld zwischen Theologie der Religionen und komparativer Theologie // Rationalität und Spiritualität / Hrsg. von C. Bickmann, T. Vosshenrich, H.-J. Scheidgen, M. Wirtz. Nordhausen, 2009. S. 215.
- Истолкование им этого понятия представлено в: Rahner K. Vom Sinn der häufigen Andachtsbeichte // Schriften zur Theologie III. Zur Theologie des geistlichen Lebens. Einsiedeln; Zürich; Köln, 1961. S. 219.
- Rahner K. Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen // Schriften zur Theologie V. Neuere Schriften. Einsiedeln; Zürich; Köln, 1962. S. 145.
- См.: Stosch K. von. Op. cit. S. 216.
- С библиографией по анонимному христианству, а также с критикой Ранера и ответами на нее (при апологетической позиции по отношению к Ранеру) можно ознакомиться по монографии: Хромец И. С. Введение в антропологию Карла Ранера. Киев, 2014. С. 118–138. Среди серьезных обзоров по теме следует выделить компактную статью: Hübner S. Die nichtchristliche Menschheit im Licht christlichen Glaubens. Karl Rahners Überlegungen zum Thema “anonyme Christen” // Zeitschrift für katholische Theologie. 2004. Bd. 126. S. 47–64 и очень обстоятельную монографию: Schwerdtfeger N. Gnade und Welt. Zum Grundgefüge von Karl Rahners Theorie der “anonymen Christen”. Freiburg i. Br., 1982, в которой подробно осмысляются предпосылки концепции в целостном наследии Ранера, в частности в его концепции Откровения. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить за отсылки к этим текстам ведущего отечественного исследователя творчества Ранера Е. А. Пилипенко.
- Речь идет о § 16 главы 2 «О народе Божьем», в котором утверждаются три пропозиции сразу: «А те, кто не по своей вине не знает Евангелия Христова и Его Церкви, но все же ищет Бога искренним сердцем и под воздействием благодати стремится исполнять своими делами Его волю, познаваемую голосом совести, могут обрести вечное спасение (здесь и далее курсив мой. — В. Ш.). Божественное Провидение не отказывает в помощи ко спасению тем, кто не по своей вине еще не достиг ясного познания Бога, но пытается вести правильную жизнь не без благодати Божией. Ибо всё доброе и истинное, что можно у них обнаружить, Церковь считает неким приуготовлением к Евангелию…». Первая пропозиция соответствует концепции анонимных христиан, так как в ней утверждается, что можно и без обращения в христианскую веру достичь вечного спасения. Третья вполне традиционная, так как восходит еще к идее Евсевия Кесарийского (в документе цитируемого), а также к его предшественникам, прежде всего к Клименту Александрийскому. А вот вторую можно понимать двояко: и в значении и первой, и третьей одновременно. Здесь и далее тексты II Ватиканского собора цит. по пер.: Документы II Ватиканского собора / пер. А. Коваль; богословский консультант о. А. Стричек. М., 2004.
- Следует отметить, что сам Ранер, вероятно под впечатлением только что обозначенной острой дискуссии, в более поздней публикации готов был идти на компромисс в связи с обсуждаемым словосочетанием: «Является ли словосочетание “анонимный христианин” хорошим или ведет к недопониманиям и является ли понятие “анонимное христианство”, которое в свое время означало нечто другое, полезным и в настоящее время, должно быть в конечном счете оставлено для дискуссии теологов» (Rahner K. Glaube in winterlicher Zeit. Düsseldorf, 1968. S. 23). Однако бренд стал и к тому времени, и до сих пор продолжает жить своей интенсивной жизнью уже автономно, хотя, конечно, его создатель один несет за него ответственность.
- Этому двуединству посвящено классическое индологическое исследование: Doniger W. O’Flaherty. Asceticism and Erotism in the Mythology of Śiva. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- См.: Troeltsch E. Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte. 2. AufL. Tübingen, 1912. S. 90–91.
- См.: Ibid. S. 77. Методологически здесь развиваются основоположения еще более ранней, программной и полемической работы «Об историческом и догматическом методе в богословии» (1900), где указывается, что «серьезное отношение к историческому методу заключается прежде всего в том, чтобы осознать укорененность христианства в общей истории и приступить к задаче его исследования и оценки только в перспективе широкой взаимосвязи всей истории. Следует реализовать в богословии исторический метод со всеми его объективными последствиями. Так возникает требование построения богословия на основе универсально-исторического метода, и поскольку здесь речь идет о христианстве как религии и этике, то это требование означает построение богословия на основе религиозно-исторического метода» (Трëльч Э. Об историческом и догматическом методах в богословии // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм ХХ века: Тексты с комментариями. М., 2009. С. 29–30).
- Ibid. S. 52.
- См.: Ibid. S. 75.
- См.: Ibid. S. 35.
- См., прежде всего, знаменитый манифест «Нет! Ответ Эмилю Бруннеру» (1934).
- См. об этом фундаментальную статью: Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм ХХ века: Тексты с комментариями. С. 322–364.
- Barth K. Die kirchliche Dogmatik. Bd. 1/2. Zürich, 1938. S. 330–331.
- Ibid. S. 335.
- Ibid. S. 332–334.
- Ibid. S. 327.
- Ibid. S. 325, 330–331, 337–338.
- Этот вопрос подробно обсуждается в: Knitter P. Towards a Protestant Theology of Religions: A Case Study of Paul Althaus and Contemporary Attitudes. Marburg, 1974. P. 32–36.
- См.: Althaus P. Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik. 7. Aufl . Gutersloh, 1966 (1. Aufl . 1947). S. 39, 57–59, 344.
- Knitter P. Op. cit. P. 37.
- Althaus P. Op. cit. S. 53.
- Ibid. S. 140.
- Pannenberg W. Erwagungen zu einer Theologie der Religionsgeschichte // Grundfragen Systematischer Theologie: gesammelte Aufsatze. Gottingen, 1967. S. 276–277.
- Ibid. S. 291–292.
- Pannenberg W. Die Off enbarung Gottes in Jesus von Nazareth // Theologie als Geschichte / Hrsg. von J. M. Robinson und J. B. Cobb. Zurich; Stuttgart, 1967. S. 141, 143.
- Beyerhaus P. Zur Theologie der Religionen im Protestantismus // Kerigma und Dogma. 1969. Bd. 15. S. 100–101.
- Ibid. S. 103.
- Fahlbusch E. Theologie der Religionen. Uberblick zu einem Thema romisch-katholischer Theologie // Kerigma und Dogma. 1969. Bd. 15. S. 73–86.
- Ratschow C. A. Die Moglichkeit des Dialogs angesichts des Anspruchs der Religion auf den Menschen // Evangelisches Missions-Jahrbuch. 1970. S. 113.
- Ibid. S. 116.
- Ratschow C. A. Der angefochtene Glaube. Gutersloh, 1957. S. 260–261.
- Ratschow C. A. Die Moglichkeit des Dialogs... S. 114.
- См.: Knitter P. Towards a Protestant Theology of Religions... S. 209.
- См.: Ibid. S. 212–218.
- См.: Knitter P. Towards a Protestant Theology of Religion... S. 220.
- См.: Ibid. S. 222.
- См.: Ibid.
- Ibid. S. 232–233.
- См., к примеру: Runzo J. God, Commitment and Other Faiths: Pluralism vs. Relativism // Faith and Philosophy. 1988. Vol. 5. P. 343–364. Здесь с чувством большой самоудовлетворенности констатировалось, что христианство и в самом деле является «абсолютной религией», но только для христиан, как в точности и буддизм является таковым для буддистов. Потому получается, что слово «Абсолют», вопреки своему происхождению, может иметь любое множественное число.
- «Инклюзивизм имеет место, когда кто-то истолковывает определенное ключевое понятие чужого религиозного или мировоззренческого направления как идентичное тому или иному ключевому понятию того направления, которому принадлежит он сам. Преимущественно к инклюзивизму относится эксплицированное или подразумеваемое утверждение, что чужое, которое истолковывается как идентичное своему, определенным образом подчинено последнему или уступает ему. Дальнейшее же обоснование того, что чужое идентично своему, обычно не предпринимается» (Hacker P. Inklusivismus // Inklusivismus: Eine indische Denkform. Wien, 1983. S. 12).
- Cм.: Das Portal zur katholoschen Geisteswelt: URL: http://www.kath-info.de/hinduismus. html (дата обращения: 10.04.2025).
- Об эксплицитной вере во Христа как необходимом условии спасения прямо сказано у евангелиста, который резюмирует все свое повествование словами: Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20:31). Да и македонскому тюремщику, потрясенному чудом освобождения свыше Павла и Силы от оков и вопросившему их, что ему делать, чтобы спастись, они не сказали, что он уже спасен за чистоту своего сердца (хотя она была для них очевидной), но веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой (Деян. 16:31). И уже, казалось бы, по всем статьям «анонимный христианин» Корнилий Сотник, чьи молитвы и дела дошли до Бога и который даже сподобился даров Св. Духа, должен был креститься ради спасения по повелению Петра, а значит, и посвящен в начальное христианское вероисповедание вместе со всем его домом (Деян. 10:48).
- С конкретными формулировками и «супраэкумени чес кими» искательскими инициативами Павла VI и Иоанна Павла II в отношении мусульман (нельзя не обратить внимания и на саму односторонность этих инициатив, которая вполне понятна из того, что в диалоге, как правило, больше заинтересована слабая сторона) можно ознакомиться по публикации: Боррманс М. Павел VI и Иоанн Павел II в диалоге с мусульманами // Новая Европа. 2002. № 15. С. 4–18. Позже голландский епископ Мартинус Мускенс в духе этих диалогов предложит обращаться своей пастве к Богу как к Аллаху, поскольку… «Бога на самом деле не волнует, как мы к Нему обращаемся, а для продвижения межрелигиозного диалога это было бы весьма полезно» (cм. о нем: Голландский епископ предлагает католикам молиться Аллаху. URL:https://ru.wikinews.org/wiki/Голландский_епископ_предлагает_католикам_молиться_Аллаху (дата обращения: 10.04.2025). Еще более глубокий и односторонний «супраэкуменизм» определяет отношения католиков с иудеями еще с предсоборного времени. Так, хорошо известно, что пятничная (на Страстной неделе) римо-католическая молитва, в которой содержалось обращение к Богу, с тем чтобы Он снял покрывало с сердец иудеев, отвергающих Христа (прямая цитата из 2 Кор 3. 14–15), «редактировалась» как могущая задеть их чувства дважды: в 1959 и 1970 гг., тогда как робкие просьбы католиков об ответном «редактировании» характеристики Иисуса в Талмуде как оккультиста, пользовавшегося своими магическими способностями и колдовством, которым он обучился в Египте ради соблазнения народа, и заслуженно преданного смерти, а также весьма нелестных намеков в связи с добродетельностью Его Матери (см., к примеру: Санг. 107 б, 43 а, Шаб. 104 б, Хагг. 4 б) остались без ответа (и даже без извинений) на том основании, что священные тексты не переписываются. См. подробнее об этом, в частности, в: Шохин В. К. Христианство как религия политкорректности в современной Европе // Альфа и Омега. 2008. № 53. С. 216–236; D’Acosta G. Christian Theology of Religions 7.2 // St. Andrews Encyclopedia of Theology. URL: https://www.saet.ac.uk/Christianity/ChristianTheologyofReligions/1000.pdf.pdf (дата обращения: 11.01.2025). Разумеется, вопросы здесь не к иудейской стороне, так как трудно себе представить, чтобы какая-либо другая религия чувствовала себя до такой степени в положении непрошенной гостьи в собственном доме.
- Кюнг в диалоге с виднейшим буддологом Х. Бехертом пояснял, что заимствующей стороной (речь идет о практике дзеновской медитации) должна быть только христианская как несоизмеримо более ущербная вследствие того, что христиане «регламентированы даже в молитве церковной догматикой, оцепеняющими правилами и духовной дрессировкой» (Küng H., Behert H. Christentum und Weltreligionen. Buddhismus. München; Zürich, 1999. S. 204). Этому ненавистнику своей религии (не постеснявшемуся написать, что даже «некоторые нарушения толерантности» в исламе (в других нехристианских религиях, согласно этому «религиоведу», на нее нет и намеков) суть совершенные пустяки в сравнении с таковыми в христианстве (см.: Küng H. Projekt Welt-Ethos. München; Zürich, 1990. S. 109–110). Кюнгу была посвящена наша специальная статья: Шохин В. К. Ганс Кюнг и предлагаемый им проект всемирного этоса // Вопросы философии. 2004. № 10. С. 65–73.
- Эта метафора, однозначно уничижительная для нормального, но не для «ослабленного» (для потсмодернистского мышления — оптимального) религиозного сознания, находится в полном соответствии с тем, каким он видит истинное призвание христианства в современную эпоху межрелигиозных конфликтов — ни в коем случае не в утверждении своей «сильной идентичности», но в «возвращении себе функции источника и обоснования светскости» (Ваттимо Дж. После христианства. М., 2006. C. 112).
- Имею в виду догмат о Божественном триединстве.
- Подразумевается теистический антропный принцип, соответствующий теории тонкой настройки Вселенной.
- Об этом, мне кажется, говорит и евангельская притча о десяти девах, половине из которых было сказано Женихом, что Он их не знает, несмотря на все их хорошие (а по причине девства даже подвижнические) дела (Мф. 21:1–13). Также и отказ, казалось бы, избранных людей прийти на брачный пир, символизирующий вечное блаженство, из другой притчи (Мф. 22:1–14) ставит причастность к последнему в прямую зависимость от любви к Устроителю пира. Метафора же брака (как и брачной верности), весьма популярная в Библии, указывает именно на интерсубъективные отношения конкретных людей с конкретным Богом, а не исполнение таких максим (правил нравственности), которые, по этике Канта, могли бы быть положены в основание всеобщего морального законодательства.
- Так, можно предположить, например, что платоническая по происхождению система четырех кардинальных, несводимых друг к другу фундаментальных для человеческого достоинства добродетелей (в виде рассудительности, сдержанности, мужества и справедливости), глубоко почитавшаяся много веков на христианском Западе и Востоке, имеет по своей совершенности происхождение и свыше, тогда как приписываемые в Ветхом Завете повелению Бога геноциды египетских и ханаанских младенцев имеют происхождение «нижечеловеческое», так как и Авраам перед уничтожением Содома и Гоморры просил не карать невинных вместе с виновными, не допуская, чтобы Судия земли поступил неправосудно (Быт. 18:23–25). Признать божественное авторство этих повелений можно только, мне кажется, двумя способами: согласившись с Маркионом в том, что Бог иудейский и Бог христианский совсем разные или добровольно отказаться от самого разума, который признается главным даром Божьим. Есть, правда, еще и третий путь — одиозного применения к неприятным местам так называемого аллегорического метода (например, к блаженству разбиения вавилонских младенцев о камень — Пс. 136:9), широко применявшегося некоторыми авторитетными патристическими авторами, который и сейчас в ходу, но его апологетическая измышленность представляется настолько очевидной, что не нуждается в подробных комментариях.
Источник
Шохин В. К. Теология религий: начальный период // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2025. Вып. 118. С. 31-52. DOI: 10.15382/sturI2025118.31-52
