- Научные статьи
Митрополит Антоний (Храповицкий) между Кантом и французским спиритуализмом
Опубликовано: 19 февраля 2025
Источник
Хондзинский П., прот. Митрополит Антоний (Храповицкий) между Кантом и французским спиритуализмом // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2024. Вып. 115. С. 134–144. DOI: 10.15382/sturI2024115.134-144

Важность присутствия Канта в русской религиозно-философской мысли — факт давно и хорошо известный. Менее, пожалуй, изучена рецепция кантовских идей в академическом богословии, хотя и здесь какие-то наработки есть. Однако отношение к Канту столь известного и важного для богословия ХХ в. автора, как митр. Антоний (Храповицкий), до сих пор, кажется, не стало предметом серьезного научного осмысления. Оговорюсь сразу, что важными здесь представляются отнюдь не проблема оригинальности Антониевой критики и даже не вопрос, насколько она была корректна, а скорее выяснение того, что притягивало и что отталкивало критика, с какой точки зрения эта критика велась и к каким результатам привела самого автора. Об этом и пойдет речь далее.
1.
Наиболее значительное место критике Канта тогда еще архимандрит Антоний уделяет в двух своих ранних работах: диссертации «Психологические данные в пользу свободы воли» (1888)[1] и статье «Нравственное обоснование важнейшего христианского догмата» (1894)[2].
В диссертации Канту посвящена целая глава, которая так и называется — «Критика Канта». В ней автор сосредотачивается прежде всего на критике кантовских представлений о самосознании. Чистое самосознание описывается Кантом с помощью формулы «я мыслю», что подразумевает «не столько объект нашего самосознания, сколько сознание самого мышления»[3]; иными словами — «не мысль о своей собственной творчески волящей личности, но только мысль об единстве самого познающего мышления, о голой логической форме, а не о субъекте»[4]. Такой подход вступает в противоречие с данными современной психологической науки, говорящей, что «на самом деле живым нервом всей формальной или самодеятельной стороны сознания служит не мертвое логическое единство, а именно единство личное», что «самое предположение вещи в себе за явлениями постольку лишь и законно и психологически возможно, поскольку мы за нашими ощущениями, желаниями и поступками непосредственно, самодеятельно и априорно сознаем творчески свободный субъект — наше я»[5].
Впрочем, на самом деле Кант описывает самосознание с точки зрения того, каким оно должно представляться теоретическому разуму, а не таким, каково оно есть на самом деле. Поняв это, мы сможем примирить кантовские представления с опытной психологией: он не столько противоречит ей, сколько указывает на невозможность чисто рациональной психологии, в чем с ним вполне можно согласиться. Иными словами, согласно Канту, «в теоретическом познании наше я есть не более, как безкачественный субъект явлений, трансцендентальный, т. е. недоступный для познания во внутреннем значении, но, как такой, он имманентен разуму практическому, т. е. волевому отношению к себе и предметам»[6].
В то же время, сходясь с Кантом в критике рациональной психологии, мы не можем сказать, что он тем самым уже приходит и к тем же положительным выводам, которые делаем мы, а именно: что «свобода… заложена в самом основании душевной жизни, в господственном положении субъекта по отношению к ее явлениям, и что сознание ее не такого рода акт, к которому по произволу можно питать доверие или недоверчивость, а такой, в котором знание проникает за покров явлений и с достоверностью которого стоит и падает всякая другая достоверность»[7].
2.
В статье «Нравственное обоснование важнейшего христианского догмата», напечатанной в «Богословском вестнике», акценты смещаются и дискурс приобретает скорее богословский, чем философский характер. Обращает внимание на себя и то, что статья, как указывает сам автор, написана в дополнение к напечатанной в этом же номере статье А. Кирилловича «Учение Канта об оправдании»[8]. Поэтому скажем два слова и о последней.
Кириллович начинает с признания заслуг Канта перед религией, заключающихся в том, что он первый философски «исследовал область практического разума и с очевидностью доказал потребность в искуплении, коренящуюся в самом существе разума»[9]. Главная же его ошибка заключается в том, что он, принципиально различая «идеального и исторического Христа», счел возможным достижение оправдания и святости исключительно при помощи сознательного следования идеалу разума. Правда, он сам, как ни пытался отделить «идеал от опыта, все-таки в конце своего учения об оправдании принял конкретный исторический идеал в лице Господа нашего И. Христа»[10]. Однако, с одной стороны, историческое олицетворение идеала как явление никогда не достигает идеала, а потому остается несовершенным, а с другой стороны, «если бы исполнение морального закона обладало силою спасти меня, то я спасся бы и без посредства исторического идеала, который ничего не сделал, да и не мог сделать лично для моего спасения»[11]. Поэтому когда Кант говорит: «Ты должен, а следовательно, ты можешь стать святым», мы вынуждены ему ответить: «Мы знаем, что должны быть святыми, но не можем этого сделать сами, ибо не в нашей власти возродить себя и очистить от греха»[12]. Таким образом, ценность кантовской религии «в пределах только разума» только в том, что она хотя доказала свою реальную неосуществимость, в то же время стала «могущественным противовесом формально-юридическим представлениям об оправдании, господствовавшим в западном богословии со времен Ансельма Кентерберийского»[13]. Главной же причиной кантовских заблуждений является то, что «он не понял неразрывности той логической связи, которая существует между нравственными требованиями христианства и его догматическими положениями»[14].
Архим. Антоний также начинает свою статью с признания того, что нравственная религия Канта гораздо ближе к православному аскетическому учению о духовном совершенстве, чем к «нравственному этерономонизму католиков и протестантов»[15].
В то же время, вопреки Канту, нравственная автономия вовсе не подразумевает обязательный отказ от объективного представления о божественном нравственном миропорядке: для сохранения автономии вполне достаточно, чтобы за человеком оставался автономный внутренний выбор — принять или не принять этот порядок[16]. И если Кант признает, что переход от ветхого человека к новому сопряжен с перенесением мучительных страданий[17], то нельзя надеяться, что одна только мысль о «человечестве в его полном моральном совершенстве» станет для нас всепобеждающим мотивом к их преодолению, поскольку ни внешний, ни внутренний опыт «не дают мне уверенности в том, что личное совершенство мое или другого есть достигаемая величина»[18].
То же самое следует сказать и о попытке Канта представить Христа как олицетворение нравственного идеала. Чтобы быть не чуждым мне и чтобы сохранить мою нравственную автономию, этот идеал должен быть не только дан мне исторически, то есть объективно (здесь автор ссылается на кантовский пример с воображаемыми талерами), но и стать субъективно внутренним содержанием моей личности[19], а этим условиям отвечает только личность евангельского, а не кантовского Христа: «Эта святая личность в своей божественной правде для меня, во-первых, вдохновляющий пример, а во-вторых… она становится для моего сознания как бы частью моего я, или точнее, я сам становлюсь частью этой личности… причастником ее внутренней жизни»[20].
Чтобы понять, как это возможно, следует ввести отсутствующее у «сурового и сухого» Канта понятие — любовь. Безусловная святость Христа с необходимостью предполагает и всеобъемлющую любовь, объединяющую в себе все человечество и создающую единство его жизни. Эта любовь, будучи состраданием к переносимым мною ради нравственного обновления страданиям, и есть та вливающаяся в меня сила, при помощи которой я только и способен преодолеть их. Не имея нужды бороться с грехом в Себе, Христос страдает с нами: «Эти-то страдания сострадающей любви и являются нашим искуплением не в смысле только ободряющего примера, но в том действительном смысле, что… я своим стремлением идти путем Его святости, делаю Его достоянием своего существа, Им живу, Им оживляю нового человека своего и примиряюсь с своими, дотоле столь мучительными страданиями»[21].
Наконец, отсюда же следует и необходимость признания того, что Христос был истинный Бог, ибо в силу необходимости тяжкой борьбы со своим греховным естеством и соблазнами мира «для подвижника Христос, ради Которого он отрицается миром, должен быть выше мира… и всякого условного бытия: для сего он должен быть бытием безусловным»[22].
3.
Попробуем теперь оценить оригинальность и возможные основания выбранной архим. Антонием точки зрения для критики Канта. Здесь нам помогает замечание И. В. Попова, который в своей рецензии на вышедшее в начале ХХ в. собрание сочинений вл. Антония указывал, что «своим философским развитием» автор более всего обязан «Канту и французским спиритуалистам»[23]. И действительно, если мы от Канта обратимся к сочинениям представителей названного течения, ограничившись хотя бы теми, частые ссылки на которых присутствуют в Антониевой диссертации (это Ш. Секретан[24] и А. Фулье), то труды наши по ознакомлению с их не переводившимися на русский язык сочинениями будут не бесплодны[25].
Начнем с того, что в лекциях по «философии свободы» Секретан выстраивает свою линию в истории философии, репрезентуя ее полюса именами Фомы Аквината и Дунса Скота. Для первого в основе всего лежит естественная необходимость, для второго — свобода. Фома — метафизик, Дунс Скот — психолог, для которого «субстанцией я является и может быть только воля»[26]. Вслед за ними одной из самых существенных вех в истории философии нужно признать философию Канта. В ней — являющейся глубинным выражением «раздираемого человеческого сознания» — одновременно присутствуют идея необходимости для чистого разума и идея свободы — для практического. В теории Кант исповедует чистый субъективизм, а постулаты его нравственной системы стоят в несомненном противоречии с ним[27]. Ведь мы не только постигаем мир, но и действуем в нем, а если он принципиально феноменален, то и принимаемые нами решения могут иметь только феноменальную ценность. Между тем «самое сокровенное чувство философа заставляет его заявить, что единственным абсолютным благом является благая воля»[28], и отличие его системы от всех прочих систем в том и состоит, что он не стремится основать мораль на религии, но, напротив, хочет вывести религию из морали[29]. При этом категорический императив требует от нас действия, а не веры. Существование Бога, бессмертие души лишь как-то «навязываются уму человека, когда он стремится творить добро»[30]. Но хотя, согласно Канту, просто следовать голосу совести более достойно, такой подход не более убедителен, чем другой, «согласно которому постулаты практического разума были бы верным выражением высшей истины»[31]. Таким образом, Кант остановился на полпути, и задача современной философии — «оплодотворить лучшую половину кантианства, создав ту философию, принцип и критерий которой Кант дал в критике практического разума»[32]. Решению этой задачи и посвящена вторая — уже систематическая, а не историческая — часть лекций Секретана. Ход его рассуждений следующий.
Психологический антропоморфизм неизбежно присутствует в начальной точке наших рассуждений об Абсолюте. Хотя идея свободы есть изначальная интуиция определяющего себя человеческого духа, он одновременно определен своей природой, следовательно, его свобода неабсолютна и, следовательно, «совершенство духа состояло бы в том, чтобы быть чистым духом, лишенным природы: чистый дух — это только то, чем он себя делает, то есть абсолютная свобода»[33]. Таким образом, мы получаем формулу Абсолюта как бытия безусловного и ничем не определенного: я есмь то, что я хочу. Иными словами, бытие — это воля. Каждое отдельное бытие есть воля, а в основании вселенной также лежит воля — единая и безусловная воля Абсолюта. Можно даже сказать, что божественная воля, творящая мир, — это субстанция мира. Однако это не подразумевает, как может показаться, некий волюнтаристический пантеизм. «Не может быть и речи о пантеизме в отношении системы, отправной точкой которой является человеческая свобода, а центром — Божественная свобода»[34].
Будучи абсолютной свободой, Бог не может творить мир по необходимости или для того, чтобы творение воздало Ему славу, ведь тогда «полнота его бытия и Его Блаженство несовершенны до тех пор, пока это не произойдет»[35]. Остается предположить, что Бог хочет этого не ради Себя, а ради самого творения. Эта догадка позволяет нам дать новое и окончательное имя воле, творящей мир. Это имя — любовь. «Бог есть любовь, это факт, это выражение его воли. Его природа не в том, чтобы быть любовью; ибо мы абсолютно ничего не можем сказать о его природе: следуя логике, у него нет природы; но он есть любовь, потому что делает себя любовью»[36]. В акте любви Абсолют для себя становится Богом для нас[37]. Это факт, который не поддается объяснению, или, другими словами, чудо, ведь для того, чтобы рядом с Абсолютом появилось иное, обладающее свободной волей существо, Он должен ограничить и унизить себя, он должен умалиться. «Любовь не может быть природой, необходимостью, сущностью. Она только факт, она может расцвести только на стебле свободы»[38]. Установив это, можно вернуться к категорическому императиву, который получает теперь свое надежное обоснование, так как, будучи тварной, человеческая свобода обязана реализоваться, ибо Бог хочет ее; иными словами, «с того момента, как у нас появилась свобода, у нас также есть моральный долг»[39]. Устранив же из этого рассуждения Бога, мы устраним и долг, «чувство долга, конечно, сохраняется; но как необъяснимое явление, отрицания которого самого по себе достаточно, чтобы избавиться от него де-факто и де-юре»[40].
Наконец, если Бог в любви ограничивает себя для твари, то ответное движение твари обнаруживает себя в любви к Богу. «Любя Бога, тварь непрестанно погружается в источник бытия… Она хочет себя, но не для себя. Она хочет себя, чтобы в ней воплотился Бог. Она хочет себя не как цель, а как средство. Она предлагает себя Богу как орган для исполнения его замыслов. Она становится прозрачной для Бога»[41]. Эта точка и есть совершенное исполнение морального закона, и с этого момента «все многообразие существования и мышления сливается в чистой стихии любви»[42].
4.
Главным трудом младшего современника Секретана, французского философа Альфреда Фуллье, можно считать работу «Свобода и детерминизм», на которую также часто ссылается в своей диссертации архим. Антоний. Интересующий нас раздел также начинается с критики Канта, хотя исходный пункт ее несколько другой. Кант не прав в том, что понимает под любовью только страсть, пассивную склонность, обусловленную преимущественно физическими причинами. На самом же деле гораздо более заслуживает наименования любви «свободный союз воль»[43]. Сокровенное средоточие личности человека — это воля к добру, истинное имя которого благость (la bonté), и, любя человека, я люблю именно его свободную личность. Иными словами, я люблю в другом его благую волю, которая и есть он, и точно так же, он любит во мне мою благую волю, которая есть я. Таким образом, любовь основана на трех понятиях: «ты, я и тот, кто есть сама любовь» (Il y a ainsi trois termes dans l’amour: vous, moi, et celui qui est l’amour même)[44]. В такой любви нет ни фатальности, ни логической необходимости, потому что она основана на свободе, «любя, мы желаем, чтобы нас любили, и в этом ответном благоволении со стороны свободного существа мы видим дар, приносимый нам безвозмездно, как благодать»[45]. Поэтому любовь чистая (l’amour pur) или бескорыстная (l’amour désintéressé) только возрастает «по мере того, как уменьшаются потребность и желание… со свободой растет щедрость»[46]. Эта щедрость (а значит, и любовь) достигает своего предела, когда я приношу в дар другому самого себя. Это не значит, что я хочу перестать быть собой или хочу, чтобы предмет моей любви перестал быть собой, но «я хотел бы быть двумя и одним; одним словом, отдать себя целиком и снова обрести себя целиком»[47].
Если же мы рассмотрим теперь любовь не с психологической, а с нравственной точки зрения, то увидим, что «свобода подразумевается уже самой любовью к свободному добру»[48]. Определив благо через категорический императив, Кант придал ему характер рациональной необходимости, иными словами, необходимости внешней, тогда как правильнее было говорить не «я обязан», но «я обязываю себя». «Бесконечная благость — это свободная воля, и я хочу желать ее свободно»[49]. Тогда Бог перестает быть для меня ограничивающим мою свободу нравственным пределом и открывается как «безграничность, побуждающая меня переступить все границы, в том числе и мои собственные… [как] бесконечная свобода, предлагающая мне бесконечно возрастать в моей свободе»[50]. При таком взгляде на вещи антиномия между свободой Бога и моей собственной исчезает, «ибо сама идея Божественной свободы или Абсолюта стремится реализовать во мне свободу. Влечение к Богу или добру — это истинная нравственная благодать; и эта благодать, вместо того чтобы… разрушить мою свободу, напротив, заставляет меня желать быть свободным, потому что я воспринимаю Абсолют как символ добра и стремлюсь реализовать в себе благо, достойное этого имени»[51].
5.
Постараемся теперь объяснить, в чем заключается интеллектуальная интрига, объединяющая рассмотренные выше тексты. Ее главный интерес состоит вовсе не в том, что архим. Антоний действительно следует за французскими спиритуалистами, подобно им, преодолевая «недостроенность» кантовской системы через представление об универсальном характере воли-любви, составляющей глубинное ядро личности, а скорее в том, что ее начало уходит в глубь веков. Действительно, отождествление воли с любовью мы находим еще в текстах блж. Августина. На этом отождествлении выросла целая мистическая традиция, из которой французский августинизм XVII в. извлек учение о чистой (l’amour pur) или бескорыстной (l’amour désintéressé) любви[52]. Его смысл сводился к тому, что, если любовь к себе основана на утверждении своеволия, то любовь к Богу — на отказе от своей воли, ради послушания воле божественной — послушания, абсолютность которого выражалась бы в нежелании спасения для себя, если вдруг этого (по невозможному предположению) захочет Бог. Уже давно замечено, что философскую итерацию этого учения Кант дал в своем учении о категорическом императиве и автономной морали. Иными словами, его концепция представляет собой в известном смысле точку максимального удаления от своего первоисточника (Августина), дающую своего рода представление о «любви в пределах одного только разума». От этой точки начинается обратное движение, которое мы и могли наблюдать в представленных выше работах у французских спиритуалистов, хотя никто из них не ссылается прямо на Августина или Фенелона.
Наконец, будущий митр. Антоний, начав с «психологической» критики кантовских «Критик» в своей диссертации, позднее стремится включить Канта в систему уже богословских рассуждений. В своей нравственной позиции Кант представляется ему гораздо более близким православной сотериологии, чем «этерономические» католики и протестанты, и немецкому философу недостает только одного: увенчать идею нравственного долга идеей стоящей за ним воплощенной божественной Любви. И хотя Секретан и Фулье, оставаясь в рамках философского дискурса, ничего не говорят о боговоплощении, именно они, очевидно, создают background, необходимый русскому богослову уже для его богословских рассуждений, — background, который позволяет ему не только «достроить Канта», но и утвердиться в мысли об отождествляющем Себя с нами в акте любви Христе. В результате таким образом замыкается круг, возвращающий нас к актуализации излюбленных идей епископа Гиппонского[53].
Сказанным не охватывается все поле возникающих в связи с этим проблем, однако плодотворность дальнейших поисков в указанном направлении представляется очевидной.
Список литературы
Антоний (Храповицкий), еп. Полное собрание сочинений: в 3 т. Казань: Типо-Литография Императорского университета, 1900.
Визгин В. П. Философия свободы Шарля Секретана // История философии. 2022. Т. 27. № 1. С. 68–83.
Кириллович А. Ф. Учение Канта об оправдании // Богословский вестник. 1894. Т. 1. № 3 С. 397–422 (2-я пагинация).
Попов И. В. [Рец. на:] Антоний (Храповицкий), еп. Полное собр. соч. Т. 1–3. Казань, 1900 // Богословский вестник. 1901. Т. 1. № 11. С. 171–187.
Хондзинский П., прот. Французский августинизм и русские споры о «чистой любви» // Блаженный Августин и августинизм в западной и восточной традициях. М., 2017. С. 203–210.
Augustinus Hipponensis, st. De Consensu Evangelistarum. III. 14.
Fouillée A. La liberté et le déterminisme. P.: Librairie philosophique de Ladrange, 1872.
Secrétan Ch. La philosophie de la liberté. P.: Sandoz et Fischbacher, 1879.
- Ниже цитируется по: Антоний (Храповицкий), еп. Психологические данные в пользу свободы воли // Полное собрание сочинений: в 3 т. Казань: Типо-Литография Императорского университета, 1900. Т. 3. С. 491–642.
- Ниже цитируется по: Антоний (Храповицкий), еп. Нравственное обоснование важнейшего христианского догмата // Там же. Т. 2. С. 31–56.
- Антоний (Храповицкий), еп. Психологические данные в пользу свободы воли. С. 537.
- Там же. С. 538.
- Там же. С. 539.
- Там же. С. 546.
- Антоний (Храповицкий), еп. Психологические данные в пользу свободы воли. С. 552–553.
- Кириллович А. Ф. Учение Канта об оправдании // Богословский вестник. 1894. Т. 1. № 3. С. 397–422 (2-я пагинация). Скромное замечание вл. Антония, что его статья является лишь «дополнением» к предыдущей, не следует, конечно, понимать в том смысле, что Кириллович вполне оригинален. Его статья (как и многие статьи других авторов, написанные в годы ректорства Антония в МДА) есть скорее изложение взглядов учителя, то есть самого вл. Антония, который и имеет вследствие этого нужду «дополнить» недосказанное учеником.
- Там же. С. 397.
- Там же. С. 406.
- Там же. С. 410.
- Там же. С. 404.
- Там же. С. 422.
- Кириллович А. Ф. Учение Канта об оправдании. С. 422.
- Антоний (Храповицкий), еп. Нравственное обоснование важнейшего христианского догмата. С. 33.
- «Нравственное начало субъективно по выбору своего направления, но не по цели. Это положение остается даже в том случае, если б согласно Канту и вопреки истине за выражение нравственной воли признать не любовь, а холодное уважение, которое все же растет или умаляется в зависимости от нравственной ценности своего объекта» (Там же. С. 35).
- См.: Там же. С. 49.
- Там же. С. 43.
- «…нравственный идеал невозможен без личности, лежащей в его основании… такой личности, которая была бы и святая, а следовательно внешняя мне, и в то же время не этерономистическая, а следовательно как бы входящая в меня» (Там же. С. 45). Ср. в статье «Какое значение для нравственной жизни имеет вера во Иисуса Христа как Бога» (Антоний (Храповицкий), еп. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 57–74): «Только в том случае, когда я убежден, что Он видит меня, простирает незримо ко мне Свою поддерживающую десницу, объемлет меня Своею сострадательною любовью, только под этим условием Он действительно мой Спаситель, вливающий в меня новые нравственные силы, научающий руце мои на брань (Пс. 5 VII, 35) со злом, не чуждый мне, не исторический пример добродетели, а часть моего существа, или вернее, я — часть Его естества, причастник естества Божеского, как говорит Апостол» (Там же. С. 71).
- Там же. С. 46.
- Антоний (Храповицкий), еп. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 51–52.
- Там же. С. 55.
- Попов И. В. [Рец. на:] Антоний (Храповицкий), еп. Полное собр. соч. Т. 1–3. Казань, 1900 // Богословский вестник. 1901. Т. 1. № 11. С. 171–187 (2-я пагин.). С. 175.
- Секретан на самом деле был швейцарским франкофоном, однако на этом основании в начале ХХ в. его нередко причисляли к французам.
- В современной русскоязычной научной литературе о них пока пишут мало. В частности, при подготовке настоящей публикации мне удалось найти только несколько статей В. П. Визгина, посвященных Секретану. См., в частности: Визгин В. П. Философия свободы Шарля Секретана // История философии. Т. 27. № 1. С. 68–83.
- Secrétan Ch. La philosophie de la liberté. P.: Sandoz et Fischbacher, 1879. P. 87.
- См.: Secrétan Ch. La philosophie de la liberté. P. 213.
- Ibid.
- См.: Ibid. P. 215.
- Ibid. P. 215–216.
- Ibid. P. 218.
- Ibid. P. 235.
- Ibid. P. 364–365.
- P. 395. Ср. у архим. Антония: «Пред нравственным сознанием тем и высока христианская любовь, тем и возвышенно царство Божие, что это есть любовь безкорыстная, ничего для себя не ищущая, царство существ свободных, царство именно нравственного начала, чем оно перестало бы быть, если бы сознало себя единым не в единой любви, а субстанциально, каково единство и любовь стоглавой Гидры» (Антоний (Храповицкий), еп. Психологические данные в пользу свободы воли. С. 638).
- Secrétan Ch. La philosophie de la liberté. P. 434.
- Ibid. P. 455.
- Vgl. P. 440.
- Ibid. P. 474.
- Ibid. P. 475.
- Ibid. Ср. ниже: «Таким образом, загадка Абсолюта действительно разрешается в любви; загадка творения идеально разрешается в морали. Из Высшей Реальности проистекает любой идеал, мораль порождена чудом» (Ibid. P. 477).
- Ibid. P. 499–500.
- Ibid. P. 507.
- Fouillée A. La liberté et le déterminisme. P.: Librairie philosophique de Ladrange, 1872. P. 313.
- Ibid. P. 318. Vgl.: «…amans, et quod amatur, et amor» (Augustinus Hipponensis, st. De Trinitate VIII. 14).
- Fouillée A. La liberté et le déterminisme. P. 318.
- Ibid. P. 319.
- Ibid. P. 326. Сказанное определяет не только любовь между тварными личностями, но и любовь к Богу. Последняя достигает своей высшей степени, когда «мы воспринимаем Бога как суверенную и суверенно любящую свободу, которая дала нам бытие без принуждения и которая вечно отдает себя всем посредством суверенно бескорыстного или свободного, хотя и суверенно разумного акта» (Ibid. P. 324–325).
- Ibid. P. 329.
- Ibid. P. 330
- Ibid. P. 331.
- Fouillée A. La liberté et le déterminisme. P. 335.
- См. подробнее, напр.: Хондзинский П., прот. Французский августинизм и русские споры о «чистой любви» // Блаженный Августин и августинизм в западной и восточной традициях. М., 2017. С. 203–210.
- Тема «митр. Антоний и блж. Августин» требует особого внимательного рассмотрения, а пока достаточно только привести цитату из «О согласии евангелистов», где говорится, что Христос в Гефсиманском саду «в Своем лице принимает страдания Своего тела, то есть Церкви» [illam se tristitiam in persona sui corporis, id est ecclesiae suscepisse (Augustinus Hipponensis, st. De Consensu Evangelistarum. III. 14).
Источник
Хондзинский П., прот. Митрополит Антоний (Храповицкий) между Кантом и французским спиритуализмом // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2024. Вып. 115. С. 134–144. DOI: 10.15382/sturI2024115.134-144
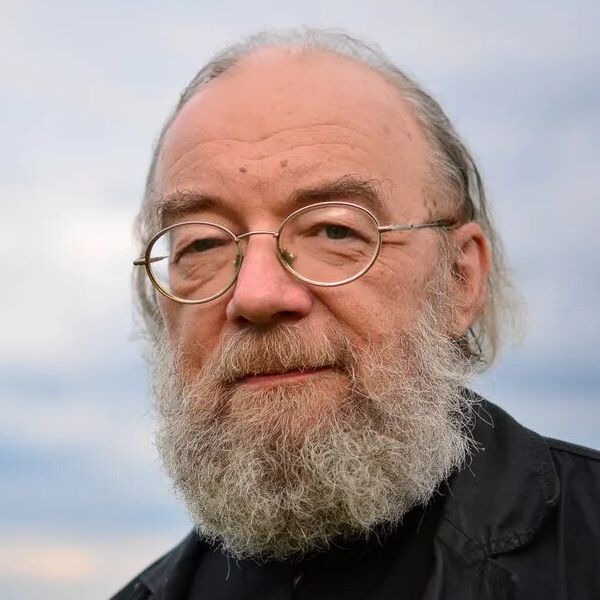
Комментарии