- Научные статьи
«Истинные ученики сей Мудрости остаются еще в покое и в священном мраке их сокровенности». «Записка» Н. А. Головина о поездке в Европу в 1830 г.
Опубликовано: 03 октября 2025
Источник
Бурмистров К. Ю. «Истинные ученики сей Мудрости остаются еще в покое и в священном мраке их сокровенности». «Записка» Н. А. Головина о поездке в Европу в 1830 г. // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2025. Вып. 119. С. 137–162. DOI: 10.15382/sturI2025119.137-162
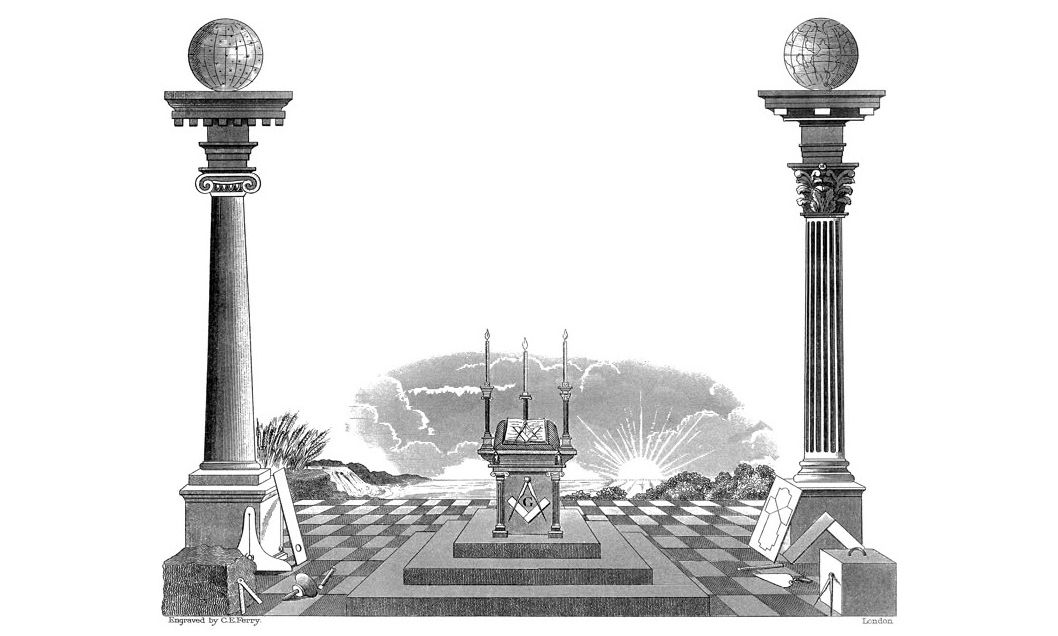
«Официальная» история российского масонства, остававшегося одним из важнейших факторов культурной жизни нашей страны на протяжении более полувека, с 1770-х до начала 1820-х годов, завершилась после ряда попыток правительства установить контроль над масонскими ложами высочайшим указом-рескриптом от 1 (13) августа 1822 г. «О запрещении тайных обществ и масонских лож»[1]. Несмотря на то что с членов лож были взяты «подписки о непринадлежности впредь к масонским ложам и другим тайным обществам», масонская работа продолжалась и в последующие годы, хотя и в новых формах — в основном это были частные собрания братьев. Это едва ли может вызвать удивление: масонство объединило в себе значительную часть тогдашней интеллектуальной и политической элиты, многие братья на протяжении долгих лет становились членами различных школ масонства, делали в них своеобразную карьеру, совершенствовались в своих религиозно-нравственных и философских понятиях.
К числу тех, чья масонская деятельность после запрета не только не была прекращена, но и, несмотря на подозрения и даже репрессии, усилилась, принадлежал один из ярких представителей александровского масонства, правитель Московской конторы адресов Николай Александрович Головин (1779–1831). Об этом свидетельствует, в частности, его письмо от 5 марта 1828 г. к московскому военному генерал-губернатору кн. Д. В. Голицыну по поводу произведенного в его доме обыска. Поскольку этот текст прекрасно характеризует умонастроение автора и резонирует с его рассуждениями в публикуемых ниже его путевых заметках, приведем из него большую цитату: «Исполняя приказание Вашего Сиятельства <...>, я имею честь донести Вашему Сиятельству, что у меня и у г-на Венкстерна действительно бывают, а перед сим бывали также и у г-на Красильникова дружеские свидания с моими приятелями, что при том никогда не было у нас намерения скрывать от правительства сии свидания и что в доказательство сему назначались даже известные оным дни, для удобнейшего взаимного распоряжения временем. В сих дружеских свиданиях мы, по исполнении взаимных наших гражданских или домашних обязанностей, находим отдохновение, а вместе и существенную для себя пользу в разговорах или чтении, имеющих целию — более и более вразумлять и утверждать нас в познании наших должностей, в рассуждении Бога, Государя и отечества, дабы таким образом, при помощи Всевышнего, отчасу более соделываться нам вернейшими сынами церкви нашей, преданнейшими подданными Государя и полнейшими гражданами отечества нашего. Из всего изложенного и искреннего изложения цели наших дружеских свиданий, Ваше Сиятельство, конечно изволите сами уже заключить, что как разговоры наши, так и наше чтение необходимо должны быть христианско-нравственные, и что если сии свидания могут быть названы тайными, то разве в смысле относительном, т. е. что они таковые в отношении к тем только, кои к подобному препровождению времени не имеют одинаковых с нами мыслей и склонностей: так как наоборот сказать можно, что другие какие-либо в общежитии дружеские свидания бывают для нас тайными, потому что наши мысли и склонности неодинаковы с предметами сих свиданий, хотя впрочем также для общества безвредных и даже полезных. Из сего же краткого изложения моего Ваше Сиятельство усмотреть изволите, что и правила, коими руководствуемся мы при наших свиданиях, необходимо должны быть христианско-нравственными. Итак, при подобной цели и подобных правилах свиданий наших, чего должны мы были опасаться или для чего укрывать себя от правительства, особливо же наслаждаясь счастием иметь столь мудрого и правдолюбивого Монарха, которого одно из главных попечений есть укоренять и распространять между подданными своими христианскую нравственность, яко единственную основу и истинному просвещению и благоденствию государства? Напротив, мы, по совести своей, смели и смеем еще надеяться, что содействуя таким образом благодетельным и отеческим намерениям возлюбленного Монарха нашего, мы удостоимся августейшего одобрения Его и не подвергнем себя никакому лишению тех преимуществ, ибо даруются от него прочим Его верным и послушным подданным»[2].
Судя по всему, ответ Головина был передан Голицыным в высшие инстанции и не убедил начальствующих в безвредности этих собраний, потому что месяц спустя губернатор получил от главного начальника Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии гр. А. Х. Бенкендорфа предписание со следующими словами: «Обратить внимание князя Голицына на существующее в Москве общество алхимо-мистическое. Намерение Государя было то, чтобы местная полиция имела приличное, но негласное наблюдение за действиями сего общества и за политическим поведением членов оного. Его Величество не имел в виду явных действий полиции, которые в подобных случаях обыкновенно служат к заглушению, а не к обнаружению истины. <...> Объяснение, данное г. Головиным, совершенно неудовлетворительно и представляет сплетение неясных мыслей и выражений. Изложенные в оном основные правила общества заимствованы из древнего масонства и выказаны с самой выгодной стороны. Доказано впрочем, что всякое тайное общество скрытое свое направление покрывает завесой добродетели и набожности. Из самих изъяснений г. Головина открывается, что религиозные понятия общества отступают от поучений господствующей веры и отражают какую-то ересь. Пение при звуке органа разных песен, приспособленных к предметам собраний, как то говорит сам г. Головин, свидетельствует, что члены общества составили себе особые понятия о религии, кои называются христианско-нравственными. Известно, по собранным под рукою наблюдениям, что члены сего общества занимаются также алхимическими бреднями: как то отыскивание философического камня и деланием золота»[3].
Николай Александрович Головин с юности (родился в 1779 г.) служил на дипломатическом поприще, в 1798 г. был направлен в Лиссабонскую миссию, а после войны с Наполеоном стал правителем учрежденной в 1814 г. Московской конторы адресов. Адресные конторы были созданы в обеих столицах по Высочайшему указу от 15 октября 1809 г. и представляли собой специальные отделения полиции, в которых регистрировались лица, прибывавшие в столицы для работы по найму или по другим условиям; в них же выдавались особые билеты на право проживания в Санкт-Петербурге и Москве. Таким образом, по роду службы Головин был тесно связан с государственной властью. В 1828 г. ему был пожалован чин статского советника.
Головин относился к числу наиболее активных и известных масонов своего времени. После посвящения в 1806 г. (московская Ложа Нептуна) он занимал высокие должности в других московских ложах (Ложа Ищущих манны, Ложа Гермеса и др.), а также в нескольких петербургских ложах. Он был одним из командоров Капитула Феникса[4] и членом Теоретического градуса, внутреннего ордена, продолжавшего работу десятки лет после официального запрещения масонства. Головин известен также как переводчик сочинений, почитавшихся масонами: «О последовании Иисусу Христу» Фомы Кемпийского, И. Масона (Дж. Мейсона), И. Арндта[5].
Так или иначе, подозрения со стороны властей и установленное негласное наблюдение, очевидно, не сильно повлияли на жизнь и карьеру Головина. Двумя годами позже, летом 1830 г., он отправился в Германию. Об этой поездке мы можем узнать из дневниковых записей Головина, озаглавленных весьма своеобразно: «Записка собственно путевым расходам, с присовокуплением некоторых кратких замечаний и рассуждений 1830-го года». Автограф «Записки» сохранился в фонде В. С. Арсеньева в Отделе рукописей РГБ[6].
Трудно понять, что это была за поездка, во всяком случае очевидно, что ее нельзя назвать служебной командировкой. Путешествие продолжалось 2,5 месяца и проходило через Польшу и немецкие земли, причем конечным его пунктом был Франкфурт-на-Майне. Буквально каждый день во время путешествия Головин скрупулезно записывал свои расходы: «За самовар», «На водку ямщику», «Старосте», «Смотрителю за ночлег», «За ужин для человека», «За ночной караул», «На водку почталлиону», «За явку пашпорта», «Верхней прислуге», «Нижней прислуге», «Комнатной девке», «За фиакр»... Всего им была потрачена довольно значительная сумма в 3576 р. 39 к. Сами по себе эти записи могут служить ценным источником сведений о ценах на товары и услуги в России, Польше и Германии в то время, тем более что Головин обсуждает также вопросы таможенных правил и сборов, специфику пересечения границ, сопоставляет валюты государств, вспоминая при этом свою поездку в Португалию и Великобританию 30 годами ранее.
Какова же была подлинная цель поездки? Намеки на нее содержатся в основном тексте дневника, благоразумно оформленном как... «краткие примечания» к записям о расходах. Здесь мы встречаем рассуждения о самых разных материях: о ландшафтах и населенных пунктах, внешнем виде и обычаях их жителей, о погоде, сельском хозяйстве, нравах на постоялых дворах и т. д. Автор часто проводит сопоставление между разными странами и землями, критически сравнивает увиденное с Россией, занимая при этом позицию, которую можно назвать «разумно патриотической» и «умеренно консервативной». Историческую ценность представляют его заметки о Польше буквально накануне восстания, разгоревшегося осенью 1830 г., о встрече с наместником Царства Польского великим князем Константином Павловичем.
Вместе с тем записи наполнены рассуждениями совершенно иного свойства, их можно назвать религиозно-нравственными, философскими, даже мистическими. Именно здесь обнаруживается настоящий интерес автора к затеянной им поездке — провести своеобразную ревизию духовного состояния народов в странах, через которые он проезжал. Хотя эти места в записках достаточно лаконичны, очевидно, что именно это и интересовало путешественника. Видно также, что автор, помня о пристальном внимании со стороны властей к масонским идеям и работам, часто прибегает к эзопову языку, лишь многочисленными подчеркиваниями выделяя тот смысл, который может обнаружить посвященный читатель (напр., под «старыми» и «иными» книгами он явно имеет в виду книги по эзотерике, при этом их так не характеризуя).
Здесь мы приближаемся к настоящей цели путешествия Головина: он хотел познакомиться с «учеными людьми» и проверить, принадлежат ли они к истинным «ученикам Мудрости», обладают ли доступом к знаниям, которые могут быть важными для российских братьев Теоретического градуса. В чем-то его «Записка» напоминает знаменитые «Письма русского путешественника», рассказывающие о поездке по Европе в 1789–1790 гг. некоего молодого путешественника (в котором, конечно, угадывается их автор — Н. М. Карамзин): «Все интересует его: достопримечательности городов, мельчайшие различия в образе жизни их обитателей, монументы, воскрешающие в его памяти различные знаменательные события; следы великих людей, которых уже нет на свете; приятные ландшафты, вид плодородных полей и безбрежного моря. То он посещает развалины заброшенного старинного замка, чтобы без помехи предаться там мечтам и блуждать мыслью во тьме прошедших веков; то он является в дом к знаменитым писателям... Кант, Николаи, Рамлер, Мориц, Гердер принимают его сердечно и приветливо...»[7]
Вместе с тем записи Головина принципиально отличаются: известно, что текст Карамзина — художественное произведение в эпистолярном жанре, в котором широко использованы сочинения других авторов[8], тогда как Головин составляет своего рода отчет для самого себя и для единомышленников, выступая исследователем, если не агентом своего ордена. Если героем Карамзина (а ему тогда было немногим за 20 лет) двигало прежде всего интеллектуальное любопытство (вспомним, к примеру, его рассказы о посещении Канта и Гёте), Головин (его возраст — 51 год, весьма почтенный по тем временам) фактически сообщает об «инспекционной» поездке. Он встречается с целым рядом известных ученых, богословов и философов (среди них И. Гейнрот, Ф. В. Линднер, В. И. Фрейганг, И. Ф. фон Мейер, Г. Г. фон Шуберт, Ю. Кернер, И. Неандер и др.), критически оценивает их умонастроения и познания — и остается в целом разочарованным. Резюмируя в конце дневника свои наблюдения, он отмечает, что «все эти люди вообще суть люди внутренно даже благочестивые, но нельзя не заметить в них односторонности <...> Они стесняют себя какой-то набожной боязливостью, приковывают себя к одному только разуму, слепо покоряющемуся догматам Веры Христианской, особливо же своей церкви, и не допускают в себе лучей истинного Света натуры. Что касается до встреченных мной так называемых учеников Мудрости, то, к сердечной скорби, должен засвидетельствовать, что все они никакого о сей Мудрости не имеют понятия». Итак, заключает он, с гордостью признавая превосходство русских братьев-масонов над немецкими, «истинные ученики сей Мудрости остаются еще в покое и в священном мраке их сокровенности».
В тексте Головина можно обнаружить несколько смысловых пластов. Первый, «обывательский», — это бытовые записи о поездке, ценах, сетования на неудобства, нерадивость простолюдинов и т. п. Следующий пласт — замечания религиозно-нравственного характера: о степени религиозности населения, его поведении в церкви, об отношении к семье, детям, наукам. Он обсуждает и осуждает буйное поведение студентов, нравственную индифферентность ученого сословия, увлеченности писателей (напр., Гёте) прославлением жизни «ветхого» человека и т. д. Наконец, третий, наиболее глубокий уровень — заметки мистические, сформулированные иносказательно, намеками, но, несомненно, составляющие подлинный смысл всего этого сочинения.
Как увидит читатель, даже вполне, казалось бы, житейские ситуации Головин рассматривает с особой, масонской, позиции «духовного зрения», в контексте мировоззрения, сложившегося среди русских братьев в 1770–1780-е годы и сохранявшегося в ложах в начале XIX в., а после запрета масонства — в узком, семейном кругу наставников и учеников Теоретического градуса, — то есть в целом, на протяжении почти полутора веков, практически до момента гибели императорской России. Узнать о философских, религиозных, этических и мистических особенностях этого круга можно из сочинений представителей «новиковского круга» (И. Г. Шварц, Н. И. Новиков, С. И. Гамалея и др.), их выступлений, небольших трактатов, масонских катехизисов[9], а также обширной переписки, лишь малая часть которой до сих пор была предана печати[10].
Читатель обнаружит в записках Головина многочисленные упоминания об «учениках Мудрости», «истинном Свете Натуры», «ветхом человеке» и других реалиях из масонского лексикона. Говоря об «односторонности» встреченных им «благочестивых теологов», он, очевидно, следует принципам масонской экклезиологии, согласно которой русские братья видели себя «истинными христианами», верными членами некой «внутренней Церкви». По словам исследователя, «доктринальным новаторством русского масонства, оформившимся в сочинениях Ивана Владимировича Лопухина, является... масонское учение о Церкви, где масонство считается хранящей полноту истины “внутренней церковью” по отношению к историческим христианским Церквам, причем приоритет отдается Православной Церкви»[11].
Как отмечает Р. Фаджонато, специально исследовавшая мировоззрение представителей круга Н. Н. Новикова, так называемых русских розенкрейцеров конца XVIII в., русские масоны, широко образованные люди, принадлежавшие к высшим слоям общества, фактически «создавали в то время новые поведенческие модели», «разработав политический способ поведения в широком смысле этого слова», целью которого было нравственное преобразование человека[12]. Торжество над злом, как социальным, так и онтологическим, возвращение к состоянию всеобщей гармонии — это был путь, начинавшийся с преобразования личности, ее возрождения. Это казалось особенно актуальным в российском контексте, в котором в то время не существовало собственно антропологического способа мышления, а православная доктрина не предлагала иных принципов этического общественного поведения, кроме монастырского[13].
Не находя в учении Православной Церкви ответов на потребности практической жизни в период кризиса и глубокой культурной трансформации, русские масоны искали их в иных традициях, в западноевропейском мистицизме, герметизме и т. п. Вместе с тем они сохраняли тесную связь с восточно-христианской духовностью, православием, видели свою миссию в его возрождении. Они не разделяли абсолютной веры в прогресс и человеческий разум, критиковали идеи европейского Просвещения и, по словам Р. Фаджонато, стремились к свободе выражения и защищали ее в любой области, руководствуясь этико-религиозными мотивами, весьма далекими от светского духа нового западного общества. <...> Эти процессы в России можно определить как ресакрализацию культуры, жизни и мира, реабилитацию символических и религиозных истоков человеческой мысли[14].
Для мировоззрения и общественной позиции русских масонов был характерен целый ряд черт, отмеченных во многих исследованиях. Они выступали как против фанатизма и обрядоверия, так и против «безбожного» рационализма, стремились наполнить «внутренним смыслом» церковные обряды и ритуалы. Уважение к просветительству, переводческой деятельности, книгоизданию, благотворительности сочеталось у них с политическим консерватизмом, строгое соблюдение церковных правил и тяготение к монашеским принципам жизни[15] — с мировоззренческой инклюзивностью, поисками крупиц света Мудрости в древних учениях и традициях. Выше всего они ставили познание Бога, природы и человека ради восстановления внутри себя истинной природы, «внутреннего человека», высшего, божественного начала. Не менее значимым было для них постижение Божьего Промысла о мире и человеке, о котором не раз вспоминает в своих записях и Головин. Познание «Натуры» было для них одним из путей, идя по которому, человек проникает через наружное во внутреннее и может достигнуть Царства Божия. Природа, об изучении которой неоднократно пишет и Головин, рассуждая о трудах немецких ученых, понималась масонами как Божественная Книга, написанная символами и иероглифами и доступная к прочтению лишь с помощью «духовного зрения». По словам одного из лидеров александровского масонства И. А. Поздеева (1746–1820), «для приобретения света истины даны человеку три книги: Библия, Натура и Человек, которые находятся в столь тесной связи между собою, что то, что одна говорит, то другие подтверждают, а Орденским братьям дана и четвертая тайная книга, то есть акты, которая служит им ключом к познанию и тех вышесказанных трех книг»[16].
Отмечая тщетность попыток немецких ученых составить достоверное представление о «сущности Натуры», Головин, несомненно, исходит из того, что это возможно лишь для религиозно и нравственно подготовленных людей, посвященных, о которых сказано в другом масонском тексте: «Наши мудрые мастера суть одни законные натуры испытатели; они одни могут с беспрекословною истиною утверждать, что они знают натуру в целом ее округе, понеже наука их вникает во внутрейшее ее... Напротив, профанские физики, так называемые натуры испытатели и натуры учители, кругом скачут всегда на поверхности всех трех натуры царств, осязают своими руками и всеми пятью чувствами произведения и явления ее и воображают себе, что могут оные изъяснить. И для того копят гипотезы на гипотезы <...> и сравниваются с человеком, который с завязанными глазами тянет от периферии циркуля линии к средоточию и тысячу крат погрешает, не могучи попасть в средоточие. Прочь с сими!»[17]
Ниже мы публикуем фрагменты «Записки» Николая Головина, обладающие, как нам кажется, наибольшей ценностью с точки зрения исторической науки, а также истории религии и философии. Нами были практически целиком опущены заметки о расходах в поездке, а также часть записей описательного и бытового характера. Публикуемый текст составляет примерно половину общего объема «Записки».
Николай Головин. ЗАПИСКА СОБСТВЕННО ПУТЕВЫМ РАСХОДАМ, С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ КРАТКИХ ЗАМЕЧАНИЙ И РАССУЖДЕНИЙ 1830-ГО ГОДА
Намеревающийся ехать в чужие края должен троекратно объявить о себе в российских ведомствах, получить из типографии номер третичного о себе объявления[18]. Должен также снабдить себя свидетельством от частного пристава о свободном своем выезде и подать о том просьбу г-ну военному Генерал-губернатору, с приложением к оному помянутого номера ведомостей и полученного от части своей свидетельства. В просьбе сей испрашивает он себе заграничного паспорта и подорожной. Служащий обязан сверх того, прежде еще, просить на то себе позволения по своему начальству. Заграничный паспорт выдается ему до пограничной таможни Польского Царства, и при выдаче подорожной вычитается с него по две копейки на лошадь за все пространство до Российской таможни; так как и я должен был заплатить при получении подорожной из Москвы до самого Бреста Литовского. Итого 64 р. 23 к.
1 июля[19]. Город Смоленск весьма мало еще поправился от разорения, претерпенного им в 1812 году, однако же нынешний год заметно в нем пробуждение большой деятельности между жителями, произведенное дарованными им великими милостями Государя Императора в прошедшем году. Ибо старые здания начинают поправляться, новые же строиться, и вообще видно, что все состояния, как бы проснувшись от сна уныния, с новой бодростью принимаются опять за предлагаемые им способы к поправлению своей промышленности. Местоположение города сего гористо, а потому самому для езды весьма неудобно и даже опасно. Напр., одна из главных улиц идет по крутой горе прямо в так называемые Днепровские ворота, а через них на мост реки Днепра. Итак, если лошади не смирны, то легко и повозку поломать, и лишиться жизни или, по крайней мере, изувечить себя.
2 июля. До Ляд[20]. С здешнего местечка вся картина вдруг переменяется, и путешественник переносится в царство жидов и поляков, особливо же первых, которые везде, на улицах и в домах, встречают и обступают его. Сначала это, по новости своей, доставляет какое-то удовольствие и припоминает древнюю Иудейскую Землю, но потом вскоре превращается в невольное негодование: ибо наступчивость жидов и наклонность их к обману выводят из всякого терпения. Вот в каком состоянии находится народ.
4 июля. До Минска. Так называемому фактору — 60 коп. Это есть жид, который провожает всюду и исправляет всякие поручения. Надобно сознаться, что народ сей к таковым должностям или услугам весьма способен, ибо все узнает и все отыщет.
Город Минск весьма невелик и мало имеет красивых зданий, особливо если исключить из числа оных церкви, которых по пространству города весьма довольно и которые имеют своего рода красоту. Вышед на другой день утром прогуляться, я растроган был до умиления веротерпимостью нашего Правительства, ибо как это был день субботы, то я встретил множество жидов, одних идущих, других возвращающихся из своей школы. Встретил также католиков со своими молитвенниками и слышал, что униаты, лютеране, реформаты, даже магометане пользуются здесь равным правом свободного вероотправления.
7 июля. Город Брест в жалком положении как в рассуждении строений, так и самых жителей, ибо он недавно весь почти выгорел и правительством не дозволено строиться вновь. Причина же сему запрещению есть та, что Государь Император, как говорят, предполагает город сей обратить в крепость, к чему местное положение его весьма способствует и что, может быть, его положение относительное[21] соделывает нужным. Между тем, жители лишены чрез то многих средств к своему поправлению. Здесь на одном развалившемся иезуитском монастыре видел я целое гнездо так называемых Бусселей[22], которых в стороне сей столько же стараются разводить у себя, сколько у нас в Москве диких голубей. Из сего не должно однако же заключать, будто и Бусселей здесь такое же множество, какое голубей в московских лавках. Я хочу тем сказать только, что и Буссели здесь берегутся. Да они, действительно, и заслуживают то по своей полезности, ибо, питаясь одними только ядовитыми гадами, как, напр., змеями, ужами, жабами и т.п., очищают от них места сии. Столь то милосерд к нам Господь и Творец верной служительницы его натуры! <...>
В Бресте останавливался я на постоялом дворе у жида Фриденталя, который посоветовал мне ехать лучше не по почте[23], а с жидом же фурманом[24]. Я послушался сего совета и 8 числа подрядил сего фурмана до Калиша.
8 июля. В таможне Российской спросили меня только, не везу ли я с собой Русских денег за границу, а в Польской — не везу ли я табаку, потому что всякий табак в Царстве Польском отдан Правительством на откуп и, следовательно, в числе запр[ещенных] товаров.
10 июля. Сего числа с помощью Господней приехал я в Варшаву. Город сей велик, имеет красивые улицы, однако же без тротуаров. Имеет немало великолепных зданий и весьма приятных мест для прогулки. Покойный Император Александр много способствовал к украшению его, и поляки с благодарностью вспоминают о Нем. Я видел здешние залы Сейма, Университет, Бельведер, т. е. летнее местопребывание Великого Князя, посещал народные или общественные гулянья и нашел все это достойным любопытства, все имеющим же немалое сходство с таковыми же предметами любопытства в иностранных землях, виденных мною прежде, когда еще в 1798 году отправлен был к Лиссабонской миссии через Англию и возвратился с берегов Тага[25] через Гамбург и Берлин в С. Петербург. Правда, тогда мне было с небольшим только 20 лет и понятия мои были совершенно другие. Однако же я многое заметил, особливо в Англии, которую проехал я сухим путем от самого Лондона до Фальмута, пробыв в Лондоне 6 недель.
11 июля. Сегодня за общим столом в гостинице я был свидетелем трех разных любопытных явлений. Вначале, перед обедом еще, пришло несколько музыкантов, чтобы играть во время стола и за угощение сие получить себе что-нибудь от обедающих. Потом пришла полька с плодами в двух корзинах, чтобы продавать плоды сии, и употребила к тому многие польские уловки довольно вольного с другим полом обращения. Наконец, явился кармелит с кружкой, чтобы, обходя обедающих, собрать себе милостыню.
12 июля. Утром, прохаживаясь по городу, зашел я в Кармелитский монастырь и с большим удовольствием отслушал там обедню. В церкви было довольно народа, и я растроган был, видя, как многие польки и поляки плакали и били себя в грудь. Господи! — сказал я про себя, вздохнув и выходя из церкви. — Слава милосердию Твоему и за то, что хотя когда-нибудь и чрез что-нибудь мы воспоминаем о Тебе, находясь в столь глубокой тьме и совершенном забвении Тебя и самих себя!
За промен двух червонцев 60 коп. Сегодня же вечером я выехал из Варшавы, но с другим же фурманом, потому что первый сдал меня своему варшавскому приятелю, жиду же. Случай этот и многие другие неприятности от прежнего жида заставили меня раскаиваться в том, что я решился ехать не по почте.
13 июля. В Ловиче за обед 3 р. 50 к. Обед был весьма плох, а прислуга еще хуже. Станция эта показалась для меня особенно замечательной по необыкновенному множеству мух.
15 июля. Приехал я наконец в Калиш. <...> Наконец должно сказать о поляках, что они русских не только не любят, но даже ненавидят. В особенности же заметно это во всем Царстве Польском. Далее сказать должно, что все поляки и польки одушевлены сильной любовью к своему Отечеству, и русский путешественник с прискорбием сознаться вынужден, что он такового одушевления в своих соотечественниках не находит. Впрочем, народ польский ветрен, хвастлив и наделен какой-то безрассудной надменностью. Удивительно для меня, что, несмотря на близкое сродство языков наших, имеющих один источник, т. е. славянский язык, я был для поляков совершенно нем, а они были для меня немы, почему и, признаться, весьма рад был тому, что приближаюсь к Германии, где язык мой опять развяжется.
16 июля. Приехал в Бреслау. Бреслау[26] есть старинный немецкий город с высокими готическими домами и узкими улицами, довольно дурно вымощенными, без тротуаров. <...> В сем городе был я свидетелем проказ здешних студентов. На другой день моего приезда поутру вдруг увидел я, что по той улице, где я жил, началась необыкновенная скачка верхом и в фиакрах, и что полицейский офицер очищал улицу эту от прочих стоявших тут повозок. Я спросил: Что это значит? Мне отвечали, что г-да здешние студенты прощаются с одним из своих сотоварищей, кончившим свой курс и отъезжающим или в другой немецкий университет, или к себе домой. Прощанье же их обыкновенно состоит в том, что многие из них провожают отъезжающего в нанятых фиакрах и верхами, имея на себе какой-то странный полувоенный наряд и обнаруживая как взорами, так и телоположением своим, какую-то дерзость, своевольство и напыщенность. Нередко, как, например, и этот раз, сам ректор университета разделяет с ними сии проводы, которые продолжаются до какого-нибудь городка или местечка, где и угощают отъезжающего прожорливым столом и крепкими напитками. Мне сказали тогда же, что и в прочих немецких университетах производятся такие же и подобные сим жалкие студенческие проказничества. Я сердечно пожалел, услышав об этом. Ибо где же, думал я, плоды даже гражданского, невинного образования? Неужели науки университетские не должны способствовать по крайней мере усовершенствованию гражданского общежития? Неужели не должны они обуздывать всякое природное своевольство и всякую безчинность? Но что еще больнее было для меня, это видеть не только всех к тому некоторое равнодушие, но и как бы одобрение того. Я заметил даже, что г-да студенты умели поселить к себе какой-то страх, по которому им во всем почти поблажают. Правда, их и немалое число. Напр., в одном Бремене 1200 человек.
19 июля. До Герлица — 12.30. На водку почталлиону — 2.40. Это последний городок Прусского владения. Я с благоговейным чувством вспомнил здесь о Богомудром, блаженном муже Бёме, погребенном недалеко от сего городка, и весьма желал даже видеть его гробницу, но не имел к тому удобства[27]. Герлиц расположен по отлогам окружающих его гор. Какой сосуд Божий, — думал я, — открыт был некогда в стране сей[28], и сколько алчущих душ напоил из себя, да и теперь еще напояет не только в своем отечестве, но и в отдаленных краях! Благодарение буди за то Тебе, о неистощимое к роду человеческому милосердие Господне, — к роду поистине прелюбодейному и неблагодарному!
20 июля. До Дрездена. Местоположение Саксонской столицы весьма приятно и производит в душе какое-то мирное ощущение — особливо когда смотришь на Эльбу и прибрежные строения. <...> Дрезден богат также многими прекраснейшими гульбищами, устроенными по большей части вдоль по берегу реки Эльбы. И жители здешние так любят пользоваться сими местами отдохновния и прогулки, что вечера целой почти недели имеют каждый свое особенное назначение. Они собираются туда, садятся за столики, и дамы вяжут чулки, а мужчины курят трубки. Сей обычай мне весьма показался, потому что он не требует, как у нас, ни излишних нарядов, ни беспрестанного праздного хождения, только взад и вперед, неизбежно соединенного с суетным желанием прельщать друг друга или кичиться друг перед другом. Должен вообще сознаться, что германцы и германки наслаждаются, в полном смысле слова, всеми выгодами общественной и семейственной жизни, — выгодами самыми законными, самыми дозволительными и совместными с здешним, т. е. земным гражданством. Так что если бы райское состояние ни в чем более не заключалось, то саксонцев можно бы было поздравить с достижением рая. Но сколь ни приятное и таковое уже общежительное устройство, однако же христианский самопознатель ведает, как все это может еще совместно быть с совершенным забвением живого Бога, с жизнью единственно ветхого, звездностихийного человека!
26 июля. Выехал из Дрездена. Перед отъездом своим, узнав, что я живу на той же самой улице, где дом, принадлежавший покойному благочестивому Доктору медицины Еме[29], я пошел сам туда, дабы видеться с теперешним приготовителем лекарства его и купить у него некоторые. Я нашел его человеком порядочно образованным, нашел также, что небольшая его лаборатория устроена хорошо и содержится опрятно. Но что касается до его понятий о медицине, то, к сожалению, нашел их вовсе не соответствующими Учению Мудрости[30], хотя он и числится в учениках оной, как сам откровенно объявил мне о том. Отзывы его о покойном еме, у которого будто его отец был лаборантом, были отзывы самые невежественные. Напр., на мое замечание, в каком Богобоязненном духе покойник описывает великие и чудесные действия своего золотого раствора, он отвечал мне, что в тот век позволяли себе прибавлять ложь, а что, впрочем, его приготовление настолько то же самое, да еще и усовершенствованное. Если заключать можно по г-ну Тюрке, так прозывается сей лаборант, о прочих соучениках его Мудрости, то вздохнуть должно о том, что, видно, по грехам нашим Учение Мудрости и истинные Ученики Ее укрыты от всенародных или явных училищ своих!
27 июля. До Лейпцига. Сего числа, с помощью Господней, я благополучно прибыл в Лейпциг. <...> Город Лейпциг стоит на большой равнине при трех незначащих речках Пардау, Плейссе и Эльстер. Улицы в нем большей частью узки, худо вымощены, без тротуаров и нечисты. Последнее, т. е. нечистота или неопрятность, видна не только на улицах, но и на бульварах с их садами, окружающих город. Здесь, так же как и у нас, льют всякую дрянь в уличные каналы или боковые углубления, а в полночь бывает такая вонь по всему городу, что, если случится быть на улице, то едва можно стерпеть оную. Ибо в это время нарочно открываются уличные посредине ямы с двумя по бокам засвещенными фонарями, и служанки сносят из домов все самое зловонное, чтобы сливать туда. После же известного часа ямы те опять закрываются. Нет! Отдавая во многом всю справедливость германцам, надобно сознаться, что в отношении к опрятности они весьма еще отстали от англичан. У сих последних — я помню — и самые маленькие города вымощены хорошо, снабжены тротуарами и содержатся гораздо чище. <...>
По моему мнению, отличительнейшее между германцами от прочих народов есть их великая и почти всеобщая любовь к наукам. Здесь беспрестанно встречаешься или с каким-либо Доктором из четырех факультетов, или с Кандидатом и студентом, так что из-под званий ученых мало заметны уже прочие гражданские звания. Книжных лавок и типографий, в особенности же здесь, великое множество, хотя книги оттого совсем не дешевы, чему не только я, но и сами немцы удивляются. В Лейпциге познакомился я с Доктором медицины Гейнротом[31], которого знал уже в Москве по его книге Über die Wahrheit, написанной в духе христианском. Он живет за городом в деревне Линденау и принял меня очень ласково. Я действительно нашел в нем человека христиански мыслящего и расположенного, преданного своему вероисповеданию. Чрез него познакомился я еще с тремя Докторами из Богословия и Правоведения, а именно: с г. Линднером[32], Ганом[33] и Фолькманом. Все они также люди благочестиво мыслящие, и потому знакомство мое с ними было для меня уже отрадно, тем более что они весьма учены. Сверх того, чрез Доктора же Гейнрота я познакомился с нашим же Генеральным Консулом г-м Фрейгангом[34]. Сей последний мыслит и расположен равным образом христиански, ласков и услужлив, но притом и суетлив, и говорлив, и хвастлив. Я часто у него бывал и обедывал. Он имеет большое семейство и весьма достойную жену. Из разговоров с ней я узнал, что и он из числа учеников Мудрости, что сохраняет уважение к Мудрости, но вместе привил к себе понятия совсем с ней несообразные. Напр., заблуждение Шведенборгово, будто люди были прежде ангелами[35]. Я осмелился заметить ему, что это вопреки Св. Писанию, где ясно видно особое сотворение человеков и их падение от зависти уже ангела. Он, однако ж, остался, кажется, при своем мнении. <...>
В Лейпциге я особенно было надеялся найти для себя некоторые книги[36], но весьма обманулся. Книгопродавцы удивлялись даже, что я спрашивал их, и обыкновенно отвечали мне, что это старые книги и их никто уже не покупает. Если же я и достал себе иные, то по времени, потому что они сами должны были доставать их через так называемых антикваров, или букинистов. Можно конечно собрать в Германии хорошую библиотеку из помянутых старых книг — только требуется время, чтобы купить их или на аукционе, или в случайно продающейся частной библиотеке. Из таковой скудости в сем роде книг я с сердечным прискорбием должен был заключить, как мало теперь в Германии любителей истинной Мудрости, — в Германии, в сем некогда столь обильном источнике оной! Боже мой! — думал я, — как счастливы были те, кои жили в тогдашнем веке! Впрочем, и нам остается еще непреложное утешение, а именно — Он, вместе с Своею истинною, возлюбленнейшею Церковью, пребывает с нами до скончания века сего. <...>
Ни в каком германском городе не встречаешь столько маленьких детей, как в Лейпциге. Они беспрестанно и везде попадаются вам с няньками и матерями, пешие или везомые в колясочках. Мне служит это подтверждением моего прежнего замечания, т. е. что в Германии весьма любят семейственную жизнь — занимаются домом и детьми своими, которыми не нарадуются.
Нелишне знать путешествующему, что везде, по германскому обычаю, когда вы обедаете у кого-нибудь в гостях, то при возвращении домой надобно дать несколько грошей прислуге того дома, ежели не хотите прослыть скупцом. Это известно и самим хозяевам, которые, кажется, обычай сей обращают даже в пользу, т. е. дешевле нанимают прислугу. При сем случае мне вспомнилось, как я с некоторыми соотечественниками обедал у одного тамошнего банкира, и лакеи на другой день пришли к нам без всяких чинов на дом, чтобы получить по талеру. На замечание мое, что это почти на то походит, как бы я отобедал в трактире, мне отвечали только, что это древний обычай.
5 августа. До Франкфурта. Я привез с собой[37] от нашего генерального в Лейпциге консула к здешнему сенатору и доктору теологии Мейеру, который давно уже известен был по изданной им книге: Посланник Света, и по издаваемому ежегодно теперь еще сочинению: Листки для рассуждения о высших Истинах[38]. <...> Я тотчас по приезде своем пошел к нему, но не застал его дома и отдал письмо свое горничной девке с тем, чтобы после обеда опять прийти к нему. Доктор Мейер однако же предупредил меня, и не успел еще отобедать, как он сам навестил меня. Мы очень скоро с ним познакомились, и в этом помогла нам общая наша любовь к истинной Мудрости. Я нашел его человеком действительно достойным; самый наружный его вид к нему располагает: взор его спокоен и кроток, обращение тихо и скромно, разговор связен, не поспешен и приятен. Собой он ростом не мал и строен, особливо по своим летам, потому что ему, по-видимому, за 50 лет. Он, между прочим, сказывал мне, что Доктор Шуберт[39] ему лично знаком, а Доктора Кернера[40] знает только по переписке. Оба сии последние Доктора мне также известны, по своим христианско-философическим сочинениям. Я надеялся было доктора Шуберта найти или в Лейпциге, или по крайней мере здесь, но ни там ни тут не нашел его и узнал от Д. Мейера, что они оба в Баварии.
На след[ующий] день моего прибытия, т. е. 6-го сего месяца, в четвертом часу пополудни, вдруг небо покрылось белыми зимними облаками, нанесенными бурным ветром, воздух помрачнел и посыпался град с громом, молниями и дождем, величиною с крупный орех. При сем ненастье, отзывавшемся зимою, когда я мысленный взор свой обратил назад и пробежал все пространство пути, мною проеханного, то, признаюсь, встрепенулся от страха и сильно почувствовал тоску по Отчизне, особливо же по кровным и близким сердцу моему. Боже милосердый! — подумал я, заехал я далеко — почти на самую уже границу Франции. Как-то возвращусь я в любезную Россию, в любезную Москву! Надобно быть в сем особенного рода одиночестве, чтобы прямо разуметь сказанное мною. Наконец, гроза миновала — небо опять заголубело, любезное солнце осветило Франкфурт, и я вместе с Д. Мейером вышли подышать воздухом на здешнем бульваре, окружающем город от одного конца, примыкающего к Майну, до другого. Мы много и долго гуляли, а потом я пил чай и весь вечер провел у Д. Мейера в приятных по сердцу разговорах. <...> Все остальное время провел я вместе с почтенным Д. Мейером <...> Накануне отъезда[41] простился с ним самым дружественным образом. В последние наши свидания мы говорили с ним о многих писателях из училища Мудрости; он всех их уважает — всех их сочинения у себя имеет, а что еще важнее — он почти с первого свидания сам спросил меня: есть ли у нас Na... Noch[42]? Одной только книги он не знал, и именно: Таинства +[43]; но и ту тотчас записал у себя, чтобы достать ее. Говоря о мудром муже Веллинге[44], он сказал мне, что покойник жил в здешних окрестностях, что он сам знал его внука, который, однако же, не наследовал сего достояния от деда своего.
Наконец должен сказать еще, что как ни дружественны, как ни откровенны были наши сношения, со всем тем я не мог заметить, чтобы ему что-либо известно было далее некоторого предела[45]: почему и не дерзнул преступить оный никаким даже намеком.
12 августа. До Саксен-Веймара. На возвратном пути моем я нарочно останавливался здесь, чтобы погулять по сей столице Княжества Веймарского и посмотреть сии Германские Афины. Для меня, признаюсь, тем еще приятнее было остановиться здесь, что Правительница здешняя есть бывшая наша великая княгиня Мария Павловна[46]. Город Веймар невелик, стоит на реке Ильме. <...> Я почти обошел его весь пешком и видел дома знаменитых германских писателей, как то Виланда, Шиллера и Гёте. Сей последний и теперь еще жив, и я мог бы посетить его, но не рассудил, ибо он, в моих глазах, отнюдь не так велик, как его почитают. Мне кажется даже, что Гёте и Шиллер, со всеми их, впрочем, словесными достоинствами, столько в сочинениях своих облагородили чувственно- гражданскую, семейственную жизнь, что не остается уже желать себе лучшей. Впрочем, ветхий человек — и ученый, и неученый — всегда старался устроить для себя чувственный здесь рай[47]. Г. Гёте должен быть не беден, ибо его дом один из лучших в Веймаре, с довольно чистым крыльцом из красного базальта, которого в здешнем краю — особливо к Франкфурту, — очень много, и который, как мне сказывали, прочен. Сверх того, Гёте, при дворцовом саде, имеет свой собственный, всем известный под именем Гётева сада[48].
Великий Князь и Великая Княгиня были в это время в загородном своем доме Бельведере. По словам почтмейстера, Она очень милостива к русским и охотно принимает их, когда бывает здесь, в отсутствии же своем приказывает доносить Себе о тех, кто проедет. По сей причине и я должен был вписать себя в нарочно заведенную для сего на почте книгу.
14 августа. До Лейпцига. <...> В этот раз я совсем неожиданно сделал еще новое знакомство, а именно: с кандидатом теологии Шиблером, который предпринял новое издание сочинений Богомудрого Бема и начал уже печатать его Путь ко Христу[49]. Я сам видел корректурные у него листочки сей изящной книжки. Кандидат Шиблер есть один из соотечественников Бема и его почитателей, а потому и решился на труд сей, сопряженный с издержками и, по всеобщему настрою германцев, даже благочестивых, не обещающий ему никакой прибыли. Итак, он одушевляется одним лишь усердием принести душевную пользу назидающим с сего рода чтением. Ибо сочинения Бёмевы сделались уже весьма редки, а притом и язык его уже состарился, так как и самое правописание. Я искренне был этим обрадован и от сердца поблагодарил Кандидата за его подвиг, который тем для него важнее, что он, по-видимому, очень небогат, ибо застал его за обедом, состоящим из одного вареного картофеля с чухонским маслом, и занимающим одну только с перегородкою комнатку. Ему очень бы хотелось определиться в Москву пастором к Лютеранской церкви. Да, кажется, приход тамошний и не потерял бы чрез то, а гораздо более выиграл.
17 августа. До Дрездена. В нынешний приезд познакомился я здесь с секретарем Библейского Общества г-м Науманном[50], к которому имел письмо от Докт. Линднера. Г. Науманн по наружности весьма благообразен, обращения тихого, ревностен, как кажется, к трудам, благочестиво мыслит и чувствует, и очень предан своему вероисповеданию. В разговорах, между прочим, сказывал он мне, что в Берлине печатаются новые, исправленным изданием, сочинения блаженного Арндта Об Истинном Христианстве[51]. Весть эта была для меня крайне приятна, и я причем спросил еще г-на Науманна: все ли четыре книги вновь перепечатываются, и вообще не будет ли что-нибудь переиначено в смысле или и совсем выкинуто? На сей вопрос отвечал он мне, что так как это предпринято христиански расположенными людьми, то, конечно, перемены или такого убавления не должно последовать. Что же касается, продолжал он, до Книги натуры Арндта, то ее можно бы и не перепечатывать, ибо с того времени много сделано новых открытий по части естественных наук. Сего ответа было для меня уже достаточно, чтобы узнать понятия г-на Науманна о философских науках истинной Мудрости, которые в основаниях своих не изменяются никакими веками и ни у каких народов[52], подобно наукам университетским. Ибо сюда также относится сказанное: Истина Господня пребывает вовек[53]! Итак, я замолчал.
Чрез г-на Науманна познакомился я еще с г-ном Леонарди, или Леонгарди, Диаконом здешней церкви, человеком образованным и точно так же мыслящим и расположенным, как г. Науманн. <...> Через г. Леонарди познакомился я наконец с Советником Берлинской Консистории г-ном Неандером — ученейшим теологом в Германии и славящимся по сочиняемой им новой церковной истории, которой вышло уже несколько частей, которой, однако же, я не читал[54]. Дай Бог, чтоб она была беспристрастнее так называемой Беспристрастной церковной истории почтенного, впрочем, мужа Арнольда[55]! Неандер принял нас, кажется, ласково, но в самой ласке его есть, не знаю, какая-то сухость, а в разговоре его неприятность. Услышав от меня, что и до России достигла Шеллингова философия, он показал некоторое удивление и сказал: А я думал, что у вас в моде мистицизм и мартинизм. Я промолчал на это. Впрочем, люди достоверные сказывали мне, что он человек благомыслящий и добрый, а в ученых трудах так неутомим, что врачи советуют ему умерить себя: в противном случае лишится зрения.
24 августа. Бреслау. В Бреслау я привез с собою от Доктора же Линднера письмо в Доктору и Профессору Теологии и Диакону при церкви св. Елизаветы Шейбелю, у которого и был[56]. <...> Он расположен был очень хорошо, так что разговор наш был по сердцу. <...> Между тем думал в себе: как много теряют г. Теологи, не участь в школе Света натуры[57], и как по сему самому безуспешно стараются они примирять друг друга — стараются, как некогда говаривали нам, сводить радиусы круга не в центре, но на периферии. Токмо Свет натуры препровождает прямо ко Свету благодати, равно как в одном только Свете благодати видят Свет натуры вполне — без всякого заблуждения.
26 августа. До Сохачева. Здесь я должен был представиться нашему Великому Князю Константину Павловичу[58], который, возвращаясь с военного смотра и узнав из книги почтовой, что такой-то проезжает из чужих краев, приказал мне к Себе явиться. Я предстал пред Ним во всем своем дорожном наряде — даже в шинели, по холодной тогда погоде, извиняясь в том пред Его Высочеством. Он сидел сам-друг[59] в коляске, приветствовал меня милостиво и тихим, неспешным образом спросил меня только: откуда еду? Куда? И когда проезжал чрез Царство Польское? Потом по-военному простился со мною. Мне, с своей стороны, приятно было видеть брата любезного нам Императора. Здесь Великого Князя больше боятся, нежели любят. Это весьма заметно. Да, впрочем, и трудно, чтобы поляки кого-нибудь из русских полюбили. Я очень помню то, что хозяин моей гостиницы в Варшаве однажды сказал мне откровенно: «Может быть, потомки наши со временем полюбят вас; но мы, старики, с материнским еще молоком всосали ненависть к русским вообще». На замечание мое, что, однако же, русские восстановили Царство Польское, он с той же откровенностью возразил мне: «Царство Польское! Да что оно значит? Оно и все с одну русскую губернию. Между тем, Россия все усиливается и распространяется, так что Российский Император может — буде когда захочет — завоевать Португалию». Если и это определено свыше, отвечал я, то и оно сбудется. Ибо кто в состоянии не покориться судьбам Божиим? Сим и прекратился наш разговор.
26 августа. До Варшавы. Этот раз в здешней таможне я совсем неожиданно подвергся конфискованию небольшого ящичка с сигарами, которые Гр. Разумовская[60] поручила мне отвезти в Москву. И я и она забыли совсем, что привоз всякого табаку запрещается в Царстве Польском. <...> При сем должен я засвидетельствовать мою благодарность Гр. Н. П. Панину, с которым я, при въезде в Царство Польское, встретился, или, лучше сказать, съехался, и который, при сем обстоятельстве, показал мне, могу сказать, даже услуги. Он возвращался с теплых Богемских вод. Мне жаль, что этот наш образованный вельможа не употреблен на службу Отечества[61]. Впрочем, Провидение лучше нашего знает, почему этого нет.
Получив от г. Леонарди записочку к находящемуся здесь английскому миссионеру Смиту (Smith)[62], имеющему поручение обращать евреев в христианство, я тотчас разведал, где он живет, и сам к нему пошел. Я застал его дома, занимающимся, по-видимому, каким-нибудь сочинением, и нашел его в самом хорошем расположении сердечном, отливавшемся на лице и в глазах его. Он принял меня с весьма спокойной ласковостью и обо многом разговаривал со мною. Между прочим сказывал мне, что обращение иудеев весьма неуспешно и что перевод Нового Завета на древний Еврейский язык — особливо Апостольские Послания — крайне недостаточен. Так что Лондонское Общество решилось перевести оный на простой, нынешний Еврейский язык[63], и чрез то гораздо более заставило евреев читать его. Все это, думал я, не без цели попускается Провидением, ибо, вероятно, служит предуготовлением к чему-либо важному в сии последние времена, в которые мы живем. <...>
Теперь время уже мне сказать некоторые мысли свои о сих новых знакомствах моих. Все эти люди вообще суть люди внутренно даже благочестивые, но нельзя не заметить в них односторонности, а по тому самому и пристрастия к своему вероисповеданию. Они стесняют себя какой-то набожной боязливостью, приковывают себя к одному только разуму, слепо покоряющемуся догматам Веры Христианской, особливо же своей церкви, и не допускают в себе лучей истинного Света натуры. Конечно, приятно для сердца, хотя несколько христиански расположенного, приятно видеть и то уже, что в такой ученой стране, какова Германия, в самых университетах ее, милосердое Провидение возбуждает и одушевляет мужей сих производить перевес противу так называемых Рационалистов[64] и ратовать с ними подобным же оружием, т. е. языком школьной учености. Так что в Германии теперь две явные, взаимно борющиеся стороны, а именно: помянутые Рационалисты, хотящие все покорить бедному, падшему разуму человеческому, — и так называемые Мистики, или хотящие покорить свой разум истинам Христианской Церкви, как выше мною замечено. Что произойдет из сей важной борьбы — единому Господу известно! Однако и теперь это не может быть вовсе бесполезным для некоторых их учащихся в университетах: иногда одно доброе слово, долетевшее до сердца, бывает впоследствии поводом к обращению всего человека. А это весьма уже полезно для рассадников, образующих целые поколения!
Я должен, однако же, из числа людей сих исключить почтеннейшего Сенатора Мейера, ибо в нем гораздо больше, так сказать, разносторонности: по чему самому он, кажется, еще с большим успехом противоратует[65] тьме, проповедуемой с высоких школ и даже с кафедр церковных.
Что касается до встреченных мной так называемых учеников Мудрости[66], то к сердечной скорби должен засвидетельствовать, что все они никакого о сей Мудрости не имеют понятия. Между ними произошло даже то самое, что произошло с наружной Церковью, т. е. своего рода католики, лютеране и реформаты, принимая сии названия не в смысле религиозном, а в философском.
Итак, истинные ученики сей Мудрости остаются еще в покое и в священном мраке их сокровенности. Они не принимают еще никакого видимого, гласного участия в сей междоусобной борьбе, как некогда благоволили принимать оное, к отраде человечества, освобождавшегося из-под ярма Папского владычества. Но что я, червь и слепец, могу судить об этом? Мне надлежит только со смирением непрестанно благодарить за себя и за отечественных соучеников моих — благодарить незаслуженное милосердие Господне, приобщившее нас к сему учению Мудрости и допустившее нас до соучаствования в таких сокровищах, о которых в Германии слуху нет. Нам остается сверх того прилежать ревностнее ко всему предписанному — пребывать верными к своему званию. А тогда и сии орудия Премудрости сами будут уметь найти достойных благодеяния их и открыться им.
10 сентября. В Купрове. Наконец остается мне сказать еще некоторые мысли свои касательно путешественников, а именно: что как беспристрастие и беспред-убеждение не суть общий удел человечества, то посему не все путешествующие имеют оный, а большей частью бывают пристрастны и предубеждены. По моему мнению, новость иностранных предметов немало также к сему содействует. Многие, особливо из наших соотечественников, находят уж все чужое — все иноземное вообще, гораздо лучшим своего, все вообще достойным подражания. Но разочарованный путешественник, отдавая иностранцам заслуживаемую справедливость, найдет, что не все у них лучше нашего, не все достойно подражания. Напр., что лучшего в их готической архитектуре, в высоте их домов и в тесноте дворов и улиц? Что подражания достойного в запряжке их лошадей, в их лошадной сбруе и в том подобном, что тотчас усматривается при кратковременном пребывании и проезде путешественника? Многие из соотечественных наших утверждают также, что вообще жизнь в Германии гораздо дешевле нашей. Но и тут следует разобрать все подробнее. Ибо я нашел, что некоторые мануфактурные изделия действительно дешевле, нежели у нас, напр., сукна, разные материи и т. п. Зато столовые запасы дороже наших. Не спорю также, что и воспитание детей, т. е. обучение их должно быть здесь дешевле; надобно, однако же, не забывать, что потребуются расходы на их содержание. Мне скажут на то: в Германии живут вообще во всем умереннее, ограниченнее. Согласен! Но если это причина тамошней дешевизны, то она не есть частный удел земли сей, а собственный произвол жителей. Сей обычай без сомнения достоин всякого подражания и гораздо полезней, нежели вводить в России парижские, ни к чему не удобные одноколки потому только, что в них ездят в Париже. Впрочем, я мимоходом касаюсь сего предмета как для того единственно, чтобы обратить и себя и других на самих себя. Ибо все мы во всех случаях подвергаемся разным пристрастиям и предубеждениям.
В заключение всего должен, в рассуждении себя, заметить еще, что когда в 1812-м году ездил я на Кавказские воды, то посетил нас Господь неприятелями, теперь же, при возвращении моем из Германии, послал Он на нас бич страшной болезни — Cholera morbus[67]!
Список литературы
500 лет гнозиса в Европе. Гностическая традиция в печатных и рукописных книгах / сост. К. Гилли. Амстердам: Ин де Пеликаан, 1993.
Августин (Никитин), архим. Иоганн Арндт и Россия // Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX века): биографический аспект. СПб.: Изд-во Музея антропологии и этнографии, 2016. С. 17–35.
Данилов А. В. Розенкрейцер и реформатор российского масонства И. В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики. Минск: Зорны верасок, 2010.
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М.: Правда, 1980.
Карамзин Н. М. Сочинения: в 2 т. / сост. Г. П. Макогоненко. Л.: Худ. лит., 1984.
Лебедев А. А. К закрытию масонских лож в России // Русская старина. 1912. Т. 149. С. 523–538.
Масоны в жандармских донесениях (конец 20-х — начало 30-х гг. XIX в.) / публ. В. Е. Корнеев. // Российский Архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. архив, 2003. Т. XII. С. 171–186.
Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1869.
Серков А. И. История русского масонства XIX столетия. СПб.: Изд-во Н. И. Новикова, 2000.
Серков А. И. Правление «триумвирата»: российское масонство начала XIX в. в переписке его руководителей. М.: Ганга, 2023.
Серков А. И. Российские масоны. 1721–2019. Век XIX: Биографический словарь: в 4 т. М.: Ганга, 2020.
Соколовская Т. О., Лотарева Д. Д. Тайные архивы русских масонов. М.: Вече, 2007.
Burmistrov K. [Review] Raffaella Faggionato. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle of N. I. Novikov // Aries. 2009. Vol. 9:1. P. 101–110.
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / W. J. Hanegraaff, ed. Leiden: Brill, 2005.
Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle of N. I. Novikov. Dordrecht: Springer, 2005.
Jagodzińska A. The London Society and Its Mission to the Polish Jews, 1821–1855 // Missions and Media. The Politics of Missionary Periodicals in the Long Nineteenth Century / F. Jensz, H. Acke, eds. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013. P. 151–165.
Swedenborg E. De Caelo et Ejus Mirabilibus et de inferno / Latin-English Edition. N. Y.: American Swedenborg Print. and Publ. Soc., 1900.
- См.: Серков А. И. История русского масонства XIX столетия. СПб., 2000. С. 244; Лебедев А. А. К закрытию масонских лож в России // Русская старина. 1912. Т. 149. С. 523–538.
- Масоны в жандармских донесениях (конец 20-х — начало 30-х гг. XIX в.) // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2003. Т. XII. С. 181–182.
- Там же. С. 184–185.
- См.: Соколовская Т. О., Лотарева Д. Д. Тайные архивы русских масонов. М., 2007. С. 197; здесь же опубликована фотография несохранившегося надгробия на могиле Головина в Спасо-Андрониковом монастыре (с. 213).
- Серков А. И. Российские масоны. 1721–2019: Биографический словарь. Век XIX: в 4 т. М., 2020. Т. 1. С. 612; Он же. Правление «триумвирата»: российское масонство начала XIX в. в переписке его руководителей. М., 2023. С. 101.
- ОР РГБ. Ф. 14. № 553 (53 л.). Ср. также воспоминания, написанные В. С. Арсеньевым (1829–1915), последним представителем старого, «новиковского» масонства: Арсеньев В. С. Из воспоминаний о покойном Н. А. Головине. М., 1893.
- Карамзин Н. М. Сочинения: в 2 т. / cост. Г. П. Макогоненко. Л., 1984. Т. 2. С. 193.
- Cм.: Макогоненко Г. П. Николай Карамзин и его «Письма русского путешественника» // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1980. С. 13–14.
- См., прежде всего, лекции И. Г. Шварца (Шварц И. Г. Лекции / cост. А. Д. Тюриков. Донецк: Вебер, 2008), а также трактаты И. В. Лопухина (Масонские труды И. В. Лопухина. М.: В. Ф. Саводник, 1913).
- См.: Письма С. И. Г[амалеи]: в 3 т. М.: Унив. тип., 1832–1839; Переписка московских масонов XVIII-го века, 1780–1792 гг. / сост. Я. Л. Барсков. Пг., 1915; Серков А. И. «Благодетель» Пьера Безухова. Иосиф Алексеевич Поздеев и его переписка: в 2 т. М., 2022; Он же. Правление «триумвирата»...; Арсеньев В. С. Воспоминания и дневник: Материалы семейного архива. Генеалогия рода Арсеньевых / сост. А. И. Серков, М. В. Рейзин. СПб., 2005.
- Данилов А. В. Розенкрейцер и реформатор российского масонства И. В. Лопухин: его учение о «внутренней церкви» как новация масонской мистики. Минск: Зорны верасок, 2010. С. 251.
- Cм.: Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle of N. I. Novikov. Dordrecht, 2005. P. 25.
- Ibid. P. 116.
- Faggionato R. A Rosicrucian Utopia. P. 5.
- Так, русские братья-розенкрейцеры, выстраивая связи между масонством и розенкрейцерством, между внешним и внутренним орденом, практически копировали отношения, существующие в Церкви между христианской общиной в целом и монашеским орденом. Розенкрейцеры во многом подражали практикам православных монахов, стремились к отречению от мирских благ, относились к своим учителям как к старцам-наставникам, называли свои действия «подвигами» и т. п. В то время как мирянин «должен был соблюдать Заповеди и уважать догматы, служение, которое был призван соблюдать монах, подразумевало полное отречение от всех мирских благ» (Ibid. Р. 134). Этот аспект розенкрейцерской духовности в кругу, к которому относился и Н. А. Головин, подробно анализирует Р. Фаджонато, а также обсуждается в рецензии на эту книгу: Burmistrov K. [Review] Raffaella Faggionato, A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle of N. I. Novikov // Aries. 2009. Vol. 9:1. P. 101–110.
- ОР РГБ. Ф. 14. № 616. Л. 14.
- «Комментарий о разных орденских истинах» (1781), цит. по: Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. СПб., 1869. С. 68.
- Согласно законодательству, проситель паспорта для заграничной поездки должен был трижды разместить объявление о своем грядущем отъезде в газете (в данном случае — в «Московских ведомостях»), чтобы об этом смогли узнать кредиторы или иные лица, которые могли иметь к нему финансовые претензии.
- Полужирным шрифтом помечены фрагменты главной части «Записки», содержащей даты, названия населенных пунктов и виды расходов с указанием денежных сумм. После них, с обозначением «Пр.» (т. е. «Примечание»), следует собственно содержательная часть текста.
- Ляды — местечко в Могилевской губернии (ныне — Витебская обл., Беларусь), один из центров хасидского движения. В 1801–1812 гг. здесь проживал основатель хасидского движения Хабад р. Шнеур Залман (Алтер Ребе, 1745–1813).
- То есть пограничное, рядом с мятежной Польшей.
- То есть аистов.
- То есть на казенной почтовой повозке и почтовых лошадях, которые менялись на почтовых станциях (отсюда выражения «ехать почтой» или «на почтовых»).
- Фурман — владелец фуры, большой телеги или повозки; название профессии, в т. ч. среди евреев.
- Река Тахо (лат. Tagus) на Пиренейском полуострове, впадающая в Атлантический океан у Лиссабона.
- Ныне — Вроцлав, столица Силезии (Польша).
- Якоб Бёме (Jakob Böhme, 1575–1624) — христианский мистик и теософ, прозванный современниками «тевтонским философом» и стоявший у истоков протестантской софиологии, т. е. учения о Премудрости Божией. Г. В. Ф. Гегель называл его «первым немецким философом», поскольку тот был первым, кто писал философские труды на немецком языке. Его сочинения были исключительно популярны в XVIII–XIX вв. среди русских масонов. Большую часть своей жизни (с 1594 г.) Беме прожил в Герлице (Саксония).
- Имеются в виду Бёме и его учение.
- Иоганн Август Эме (Oehme, 1693–1754) — известный дрезденский врач, хирург, а также алхимик. Автор многочисленных книг по алхимии и медицине.
- То есть эзотерическому знанию, к которому имеют доступ масоны.
- Иоганн Кристиан Август Хайнрот (Heinroth, 1773–1843) — немецкий врач, автор термина «психосоматика». Его книга «Об истине» была издана в 1824 г. и переведена на русский язык в 1835 г.: О истине. Сочинение И. Х. А. Гейнрота / Напеч. иждивением Князя А. Б. Голицына. Пер. с нем. А. Накропин. СПб.: В тип. В. Шульца и Г. Бенеце, 1835.
- Фридрих Вильгельм Линднер (Lindner, 1779–1864) — профессор теологии и философии Лейпцигского университета; известный масон (ложа «Аполлон»).
- Вероятно, Август Ган (August Hahn, 1792–1863) — немецкий теолог, профессор теологии Лейпцигского университета, крупный лютеранский деятель (генеральный суперинтендант Силезии). Противник рационалистов, издатель и редактор сочинений гностиков (Маркиона, Вардесана и др.).
- Василий Иванович Фрейганг (Wilhelm von Freygang 1783–1849) — русский ученый, писатель и дипломат. Член-корреспондент Петербургской Академии наук. С 1820 г. (по другим сведениям, 1821 г.) — генеральный консул России в Саксонском королевстве. По всей видимости, масон.
- Достаточно странное утверждение. Шведский ученый-естествоиспытатель и мистик Эммануил Сведенборг (1688–1772) заявлял обратное, а именно, что каждый ангел когда-то был человеком, жившим на земле. Более того, он учил, что ангелы практически идентичны людям: «На основании всего моего опыта, который длится уже несколько лет, я могу с полной уверенностью сказать, что по своей форме ангелы полностью человекоподобны. У них есть лица, глаза, уши, грудь, руки, кисти и ноги. Они видят друг друга, слышат друг друга и разговаривают друг с другом. Короче говоря, у них нет ничего такого, чего не было бы у людей, за исключением того, что они не облачены в материальное тело» (Swedenborg E. De Caelo et ejus Mirabilibus et de Inferno / Latin-English Edition. N.Y., 1900. P. 47–48).
- То есть книги, связанные с эзотеризмом и масонством.
- Имеется в виду — рекомендательное письмо.
- Иоганн Фридрих фон Мейер (Johann Friedrich von Meyer, 1772–1849) — немецкий юрист, протестантский теолог и политик (сенатор, мировой судья и старший мэр города Франкфурт-на-Майне). Он известен прежде всего своими исследованиями Библии, а также благодаря своему переводу Библии, известному как Bibel-Meyer (1819). В кругах мистиков и масонов он был также популярен благодаря многотомному изданию «Blätter für höhere Wahrheit: aus Beyträgen von Gelehrten, ältern Handschriften und seltenen Büchern, mit besonderer Rücksicht auf Magnetismus» («Листки для высшей истины: из статей ученых, старых рукописей и редких книг, с особым вниманием к магнетизму», 11 томов, 1818–1832), в которых он собрал множество различных материалов, касающихся эзотерических материй.
- Готтхильф Генрих фон Шуберт (Gotthilf Heinrich von Schubert, 1780–1860) — известный немецкий естествоиспытатель, врач, теолог и философ, мыслитель-мистик. Член Академии Леопольдины и Баварской академии наук. Автор известной книги «Символизм сновидений» (1814).
- Юстинус Андреас Кристиан Кернер (Justinus Andreas Christian Kerner, 1786–1862) — немецкий поэт, практикующий врач и медицинский писатель, исследователь животного магнетизма (месмеризма), мистик.
- 1 августа 1830 г.
- Или «Na... Noct»; название не идентифицировано. Возможно, Головин подразумевает здесь популярное среди масонов и неоднократно переведенное на русский язык сочинение английского поэта и масона Эдуарда Юнга (1683–1765) «Плач, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии».
- Имеется в виду книга Мельхиора Дузетана (Melchior Douzetemps, 1668/1669 — после 1738), немецкого пиетиста и теософа, под названием “Mystère de la Croix affligeante et consolante, mortifiante et vivifiante, humiliante et triomphante de Jésus-Christ et de ses membres” (Homburg von der Höhe,1732). Книга была очень популярна среди русских масонов; рус. пер.: Таинство креста, огорчевающего и утешающего, умерщвляющего и животворящего, уничиженного и торжествующего Иисус-Христова и членов его (М.: Вольн. тип. И. Лопухина, 1784) (cм.: Faivre A. Douzetemps // Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / ed. by W. J. Hanegraaff. Leiden, 2005. P. 321–323; 500 лет гнозиса в Европе. Гностическая традиция в печатных и рукописных книгах / сост. К. Гилли. Амстердам, 1993. С. 242–243; Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. 2-е изд. / под ред. М. В. Рейзина и А. И. Серкова. СПб., 1999. С. 457).
- Георг фон Веллинг (Georg von Welling, 1655–1725) — немецкий писатель, алхимик и мистик. Известен, прежде всего, как автор трактата “Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum” («О начале, природе, свойствах и использовании Соли, Серы и Меркурия»), опубликованного в 1719 г. под псевдонимом Gregorius Anglus Sallwigt (cм.: Faivre A. Welling, Georg von // Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Р. 1166–1168; 500 лет гнозиса в Европе. C. 230–231; Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. C. 449–450).
- То есть Мейер был знатоком эзотеризма, но не членом масонского братства.
- Мария Павловна (1786–1859) — дочь императора Павла I и императрицы Марии Федоровны, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская, супруга великого герцога Карла Фридриха Саксен-Веймар-Эйзенахского.
- Подобная оценка мировоззрения Гёте интересна в особенности в связи с тем, что этот классик немецкой литературы на протяжении всей своей жизни был теснейшим образом связан с эзотеризмом; на его мысль и творчество оказали сильное влияние как раз те авторы-эзотерики, каковых почитал Головин и другие русские братья (cм.: Malliard Ch. Goethe, Johann Wolfgang von // Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / ed. by W. J. Hanegraaff. Leiden, 2005. P. 432–434 (в статье приведена обширная библиография по данной теме)).
- В доме Гёте в Ваймаре расположен его музей (Goethe-Hausmuseum in Weimar). К музею относится также и небольшой двухэтажный садовый домик на р. Ильм, подаренный поэту герцогом. Гёте жил там летом и занимался устройством небольшого фруктового и цветочного сада.
- Карл Вильгельм Шиблер (Karl Wilhelm Schiebler) подготовил и издал одно из самых известных собраний сочинений Беме в семи томах: Jakob Böhme’s sämmtliche Werke in sieben Bänden / hrsg. von K. W. Schiebler (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1831–1847). В первом томе был опубликован трактат «Путь ко Христу» (“Der Weg zu Christo”), хорошо известный в России: книга «Christosophia, или Путь ко Христу» была издана в переводе А.Ф. Лабзина в 1815 г. в Санкт-Петербурге. О русских переводах Беме см.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. C. 442–447.
- Саксонское Главное Библейское общество было основано в 1814 г. в Дрездене. Информацию о его секретаре найти не удалось.
- «Шесть книг об истинном христианстве» Иоганна Арндта (1555–1621) принадлежат к числу наиболее популярных и часто издаваемых произведений немецкого протестантского пиетизма. В 1830 г. они были изданы в Ройтлингене и Галле. Здесь имеется в виду, очевидно, берлинское издание 1831 г. Книги Арндта относились к числу наиболее почитаемых мистических сочинений у русских масонов. «Шесть книг» были впервые изданы на церковно-славянском языке в переводе Симона Тодорского в Галле в 1735 г.; затем — в русском переводе в 1784 г., 1800–1801 гг., 1833–1835 гг. и т. д.; «Книга натуры» — в 1830 г. Многочисленные переводы сочинений Арндта, выполненные масонами, хранятся в виде рукописей в архивах (см.: Августин (Никитин), архим. Иоганн Арндт и Россия // Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII–XX века): биографический аспект. СПб., 2016. С. 17–35; Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. С. 440–442).
- То есть речь идет о древнем знании, лежащем в основе масонского учения. Крупицы этого знания, согласно масонским представлениям, сохранились в самых различных религиозных доктринах, философских школах и эзотерических традициях.
- Пс 116. 2.
- Иоганн Август Вильгельм Неандер (1789–1850) — немецкий теолог и историк Церкви. Еврей по рождению (урожд. Давид Мендель), он крестился в 1806 г. в возрасте 17 лет и принял имя Неандер («Новый человек»). Главным трудом Неандера была 6-томная «Всеобщая история христианской религии и церкви» (Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Hamburg, 1826–1852).
- Готфрид Арнольд (Gottfried Arnold, 1666–1714) — теолог-пиетист и историк Церкви. Наиболее известен как автор «Беспристрастной истории церкви и ересей» (Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie. Leipzig & Frankfurt am Main, 1699–1700, 1729), в которой история христианской Церкви интерпретируется как история постепенной деградации, а различные гонимые движения («ереси») — как подлинное христианство невидимой Церкви Духа. Книга пользовалась популярностью среди русских масонов и, как «Беспристрастная Церковная и о еретиках история», сохранилась в русском переводе в рукописях (см.: 500 лет гнозиса в Европе. С. 220–221).
- Иоганн Готфрид Шайбель (Johann Gottfried Scheibel, 1783–1843) — немецкий дьякон, позднее пастор главной евангелическо-лютеранской церкви Святой Елизаветы и профессор теологии в Бреслау. Отец-основатель Евангелическо-лютеранской (старолютеранской) Церкви в Пруссии и ее преемницы — Независимой евангелическо-лютеранской Церкви (Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche). Был противником рационализма и вмешательства власти в дела Церкви.
- То есть не изучая эзотерические идеи и соответствующие книги.
- Великий князь Константин Павлович (1779–1831) в 1826–1830 гг. был Наместником Царства Польского и Главнокомандующим польскими армиями (1815–1830). В ходе Польского восстания 17 ноября 1830 г. был вынужден бежать из Варшавы.
- То есть с кем-то вдвоем.
- Вероятно, графиня Мария Григорьевна Разумовская (урожд. кн. Вяземская, 1772–1865) — фрейлина, статс-дама, одна из самых знаменитых красавиц своего времени; ее вторым мужем был известный масон — граф Лев Кириллович Разумовский (1757–1818), владелец усадьбы Петровское-Разумовское и дворца в Москве на Тверской (впоследствии — Английский клуб), с которым был хорошо знаком Головин.
- Граф Никита Петрович Панин (1770–1837) — известный русский дипломат, идеолог заговора против Павла I. С 1801 г. находился в опале, жил в имении Дугино (Смоленская губ.).
- Ричард Смит (Richard Smith) — английский миссионер, член миссии Лондонского миссионерского общества, распространявшей христианство среди евреев Польши. См. подробнее: Jagodzińska A. The London Society and Its Mission to the Polish Jews, 1821–1855 // Missions and Media. The Politics of Missionary Periodicals in the Long Nineteenth Century / ed. by F. Jensz & H. Acke. Stuttgart, 2013. P. 151–165.
- То есть на идиш.
- То есть распространителей идей европейского Просвещения.
- То есть противостоит, противоборствует.
- То есть членов иностранных масонских лож.
- Эпидемия холеры, «собачьей смерти», разразившейся в 1830–1831 гг. в Российской империи. В Москве эпидемия началась в сентябре 1830 г. В целом по России, по официальным данным, количество умерших составило около 200 тыс. человек. Не от этой ли «губительной заразы» в 1831 г. умер и сам Николай Головин?
Источник
Бурмистров К. Ю. «Истинные ученики сей Мудрости остаются еще в покое и в священном мраке их сокровенности». «Записка» Н. А. Головина о поездке в Европу в 1830 г. // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2025. Вып. 119. С. 137–162. DOI: 10.15382/sturI2025119.137-162

Комментарии