- Книжный обзор
Обзор: «Зарождение церковного права на Руси. Митрополит Иоанн II Продром (†1089) и его канонические ответы»
Опубликовано: 25 ноября 2025
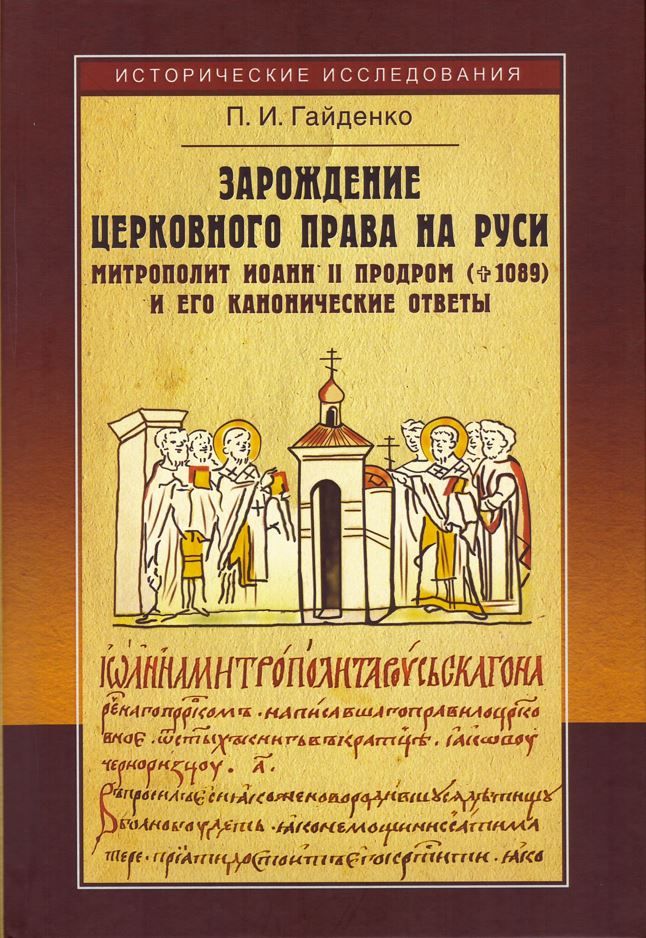
Источник
Гайденко П. И. Зарождение церковного права на Руси. Митрополит Иоанн II Продром и его канонические ответы. М.: Квадрига, 2025. 292 с. (Исторические исследования)
В издательстве «Квадрига» вышла монография П. И. Гайденко «Зарождение церковного права на Руси. Митрополит Иоанн II Продром и его канонические ответы», посвященная ключевой фигуре русской церковной истории второй половины XI в. — митрополиту Киевскому Иоанну II Продрому (†1089), византийцу по происхождению и настоящему русскому архипастырю, достигшему глубокого уважения на Руси. Центральным объектом исследования являются его «Канонические ответы» монаху Иакову — основополагающий памятник русского церковного права, сочетающий византийскую норму с пастырской адаптацией к реалиям Руси. Книга раскрывает отражаемый данным памятником процесс становления церковно-правовой культуры и «церковной идентичности» раннесредневековой Руси. Книга свидетельствует об отсутствии строгой формализации обстановки в церковно-правовой сфере: закон измерялся критериями пастырской любви и педагогики, отсутствовал «абсолютизм» архиерея в принятии тех или иных решений, активное участие при этом принимали его помощники.
Открывающая глава задает основное направление всей книги. Автор рассматривает биографию Иоанна II как одного из наиболее образованных и активных иерархов своего времени. Он носил титул Πρωτοσύγκελλος (протосингел) и оставил значительное наследие. Главное внимание уделяется «Каноническим ответам» — уникальному тексту, сочетающему строгость византийской нормы и пастырское милосердие. Подчеркивается применение византийского права через призму церковной педагогики (έκκλησιαστική παιδεία), а не механического копирования.
Далее автор обращается к фигурам, которые редко обсуждаются в историографии: хартофилаксы и духовники. Хартофилаксы, несмотря на семантику их названия «хранителей грамот», были юридическими советниками и даже составителями решений, от которых зависел результат дела. Отмечается их роль в церковной бюрократии византийского типа и сложный вопрос о нарушении тайны исповеди в случае тяжких грехов. Данная глава во многом опирается на труд замечательного историка Н. Ф. Каптерева «Светские архиерейские чиновники в Древней Руси».
Одно из центральных мест в «Ответах» — их 7-е правило о запрете смертной казни и членовредительных наказаний. Оно напрямую опровергает практики византийского права, где такие меры были допустимы для волхвов и чародеев. Иоанн настаивает: «Не до смерти убивать, ни обрезать сих телес», — ибо это не соответствует церковному учению о человеке как образе Божием. Автор приводит оба варианта — греческий и древнерусский, указывая, что перевод несколько упрощал суть, сводя педагогическое наставление к нормативному запрету. Гайденко акцентирует внимание на напряжении между «духом» и «буквой» закона, что характерно для византийской этики.
Ключевой проблемой являлась правомерность перехода клириков из одной епархии в другую. Каноническая традиция Византийской Церкви запрещала самовольные перемещения духовенства, за исключением случаев с согласия архиерея. Однако в ответе Иоанна II обнаруживается более мягкая формулировка, допускающая такие переходы «по Христовой любви и утешению» — по существу, из пастырской необходимости. Гайденко интерпретирует это как свидетельство ранней пастырской «экономии» (οἰκονομία), а также указывает на возможный кризис кадров в тогдашней Русской Церкви. Подчеркивается и тонкая грань между канонической нормой и практическим ее применением, где митрополит скорее ориентируется на результат и благо Церкви, чем на букву закона.
В монографии проливается свет на слабо изученную тему — положение иподиаконов в иерархии Русской Церкви XI–XIII вв. Важное место занимает правило, согласно которому иподиакон, вступивший в брак после рукоположения, лишался сана. Подобная строгость отражает византийскую традицию, в которой иподиаконы приравнивались к клирикам. Автор отмечает сложности перевода и интерпретации древнерусского текста, подчеркивая, что понимание данной нормы современными исследователями сильно зависит от контекста и грамматической реконструкции. Значительную роль играли «великие иподиаконы» при митрополичьих кафедрах, что свидетельствует об институционализации этого звена церковной службы.
С позиции митрополита Иоанна, участие клириков в мирских застольях расценивалось как нравственное падение и опасное сближение с языческими традициями. При этом автор подчеркивает, что такие запреты были вызваны не только духовной заботой, но и необходимостью обозначить границы между церковным и мирским. Интересно, что участие духовенства в пиршествах оправдывалось ими самими как средство укрепления связи с общиной, что автор называет пастырской прагматикой. Однако присутствие священников за столами, сопровождаемыми обрядами в честь Рода и Рожаниц, воспринимается пастырем как «двоеверие» и поведение антицерковное.
Каноническое правило, запрещающее священникам совершать богослужения без благословения своего архиерея, рассматривается как подтверждение иерархической дисциплины. Глава интересна не только как иллюстрация византийского влияния, но и как характеристика системы церковного управления на Руси. Иоанн II использует как греческий, так и древнерусский языковой корпус, показывая юридическую гибкость, но при этом настаивает на подчиненности. Участие мниха Иакова в обсуждении этого правила указывает на его высокое положение в иерархии, возможно, как хартофилакса или кандидата на епископскую кафедру.
Также, помимо всего прочего, поднимается тема отношения Церкви к рабству. Митрополит Иоанн не осуждает владение рабами как таковое, но выражает сомнение в нравственной допустимости продажи христиан в «поганые» (языческие) руки. Автор отмечает, что это не обозначалось как правонарушение, а скорее как моральный укор. Такая позиция демонстрирует переход от византийской юридической строгости к более мягкой, христиански ориентированной модели регулирования. Автор подчеркивает, что рабовладение не осуждалось, но поставлялось под церковное наблюдение.
Также речь идет о запрете странничества и проживания монахов вне монастырей. Правило апеллирует к 4-му канону Халкидонского собора, однако на Руси его соблюдение оказалось проблематичным. Автор показывает, что такое поведение монахов воспринималось как опасное: они выпадали из пастырского контроля и могли вести себя неподобающим образом. Церковь стремилась вернуть их в рамки организованного уставного монашества, а контроль за соблюдением правил возлагался на духовников. Сам факт существования таких норм говорит о сложности выстраивания дисциплины в условиях домонгольской Руси.
В качестве ключевой темы представлена проблема частых и чрезмерных пиршеств в обителях. Подчеркивается, что еда в монастырях имела не только утилитарное, но и духовное значение. Излишества в пище, участие в пиршествах мирян и женщин, веселье, переходящее в праздность, осуждались как нарушение монашеского устава. Показывается попытка митрополита Иоанна выстроить норму поведения не только для духовенства, но и для всей монашеской среды — через контроль за формой, частотой и поводом для угощений. Граница между уставной трапезой и мирским застольем здесь становится критерием монашеской добродетели.
Также в исследовании анализируются канонические основания для подчинения епископов митрополиту. Это редкий пример попытки установить церковную вертикаль в условиях слабой институциональной связности. Внимание уделено соборности — не как декоративному идеалу, а как реально действующему механизму, при котором митрополит имеет не только символическую власть, но и канонические полномочия на вмешательство в дела епископов. Гайденко показывает, что в условиях феодальной раздробленности именно церковь могла стать стабилизирующим институтом власти.
Уделяется немалое внимание рассмотрению нормы, ограничивающей частоту передвижений епископов. Частые поездки без уважительных причин воспринимались как нарушение епископской стабильности. Византийская традиция требовала от архиерея быть «пастырем на месте», и Иоанн воспроизводит эту установку. Автор указывает, что такие ограничения — это не только дисциплинарные меры, но и способ сохранить управляемость духовенства и доверие к епископату как к местной власти.
Тема строгости к внешнему облику священнослужителя раскрыта через обсуждение норм, запрещающих ношение ярких, светских и дорогих одежд. Гайденко подробно анализирует каждый элемент: порты, ряса, обувь. Нарушение предписаний влекло отстранение от службы. Визуальный код клирика должен был отличать его от мирян и демонстрировать внутреннее смирение. Исследование опирается на широкий круг источников, включая византийские параллели, и трактует одежду как знак дисциплины и идентичности.
Гайденко рассматривает различие между двумя терминами: «епархия» — канонически зафиксированная территория, «епископия» — живая структура власти и влияния епископа. В домонгольской Руси эти понятия не совпадали, и чаще говорили именно о «епископии». Это отражает незавершенность институционального оформления церковной карты и показывает, какой гибкой была структура управления в XI–XIII вв.
Автор анализирует феномен княжеской святости. Эта тема особенно ценна своей сравнительной перспективой: на Западе святыми становились прижизненно, в связи с чудесами; на Руси — посмертно, через прославления смирения, кротости и мученичества. Особое внимание уделено Борису и Глебу, Святоше, Давиду Черниговскому. Святой князь в русской модели не законодатель, а страдалец, не правитель, а жертва. Это отражение специфического отношения Руси к власти как к служению, а не к командованию.
Завершающая глава посвящена юридическим основаниям создания монастырей. Идеальной ситуацией считалось основание монастыря по благословению епископа и с утвержденным уставом. На практике часто обитель возникала «снизу»: от князя, боярина или клирика. Автор подчеркивает отсутствие унифицированной процедуры, а значит — риск споров за имущество и авторитет. Глава опирается на конкретные примеры из киевской и новгородской практики и выявляет напряжение между канонической нормой и реальностью церковной жизни, спор буквы и духа, красной нитью проходящий через всю историю канонического права и содержание данной монографии.
Монография будет полезна не только историкам и знатокам церковного права, но и всем, кто интересуется историей Русской Церкви в ранний период и закономерностями ее духовной жизни, а также людям, интересующимся историей русского пастырства.

Комментарии