Танцующая София: теология символов Ранера
Опубликовано: 01 июня 2020
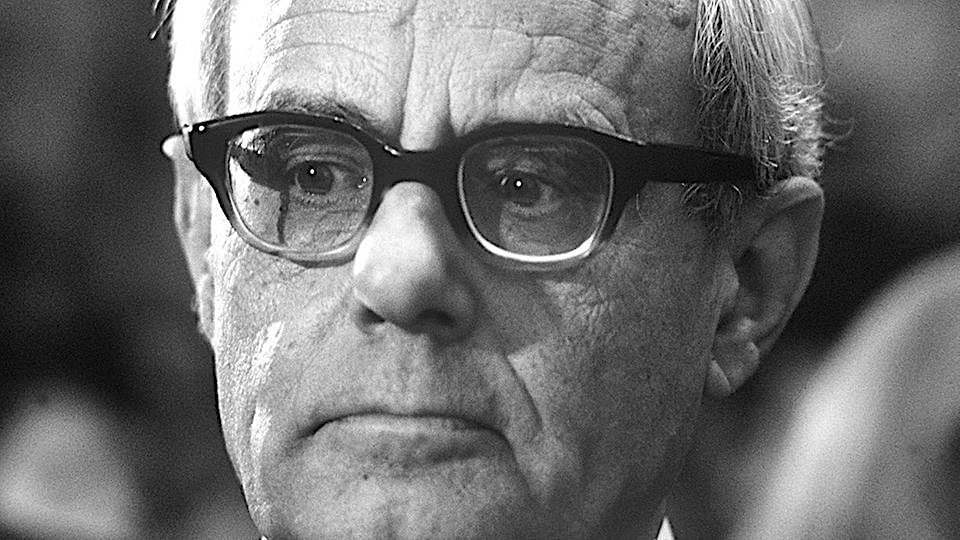
В одной из своих поздних работ Карл Ранер предложил то, что назвал «теологией символов». Его растущий интерес к отношениям между языком и бытием отражал осознание ограниченности и упрощённости рационального логоса. Как и многие мыслители XX века, Ранер был недоволен жёсткостью и искажающими эффектами традиционного дискурса и искал в символах более гибкую матрицу для упорядочивания восприятия. В своих эссе «Теология символа» и «Священник и поэт» он предлагает новое понимание языка, основанное на постмодернистской критике логоса и на концепции воплощённого Слова Иоанна [Богослова].
Организационные паттерны, связанные с логосом, настолько присущи современным языковым и мыслительным структурам, что они кажутся естественными и неизбежными. Анализ Ранера основан на предпосылке, что логос – это не основа реальности, а проекция на реальность, система фильтрации и упорядочения опыта. Он предлагает перейти от структур логоса к символическому языку – к расширению способности создавать образы за пределами формальной поэзии, чтобы служить основным способом упорядочения и осмысления опыта. Теология, например, должна изменить свою форму, придя к значению «гимноподобного разговора о (с) Боге (ом)» («Священник», 25). Для Ранера «вся теология непостижима, если она не является по существу теологией символов» («Теология», 235). Он предполагает, что движение от логоса к символу может дать возможность восстановить полноту слова, как это было пережито в докритическом сознании, сравнять реальность с непосредственностью – если не с наивностью – безгрешности.
Понимание Ранером символов и языка опирается на пролог Евангелия от Иоанна, а также на сложную герменевтику Мартина Хайдеггера, Иосифа Марешаля и других. Эти источники подкрепляют его убеждение в том, что логос неадекватен как принцип формы, поскольку он выводится из статической модели существования, которая не учитывает бытие как процесс. Он с особым интересом смотрит на формулировку Иоанна в четвёртом Евангелии: «И Слово [логос] стало плотью».
Эссе Ранера «Священник и поэт» – это его вклад в «Слово», сборник критических эссе, посвящённых Логосу Иоанна. Почему, спрашивает он, нет теологии слова? Почему никто не пришёл, подобно Иезикилю, чтобы собрать сухие кости, разбросанные по полям теологии и философии, и оживить их? Ранер различает слова, используемые в качестве однозначных знаков в рациональном дискурсе, и то, что он называет «великими словами». Эти Urworte являются материей архетипических символов – воплощённых слов. Для Ранера Слово Иоанна, которое «стало плотью», было новым поворотом в истории смысла и сознания, а также моделью для нового языка символов.
Как отметил Бернард Лонерган, «Изменения в управлении смыслом знаменуют собой великие эпохи в человеческой истории» (Доран, 30). Иоанн жил в общине, ограниченной с одной стороны тем, что он называл миром, а с другой – мириадами эсхатологических и харизматических культов. Греко-римский истеблишмент определял истину в терминах логоса, рационального мышления. Культы выступали против эллинского культурного империализма, утверждая истину внутреннего просветления, или гнозиса. Гнозис защищал ценность духа перед буквализмом, поддерживаемым государством мировоззрением, но обычно отклонялся в сторону неясности и нигилизма.
В досократическом мире религиозные и культурные прозрения были выражены в терминах mythos[1] – символы, мифы и ритуалы. Существовали народы и жизненные уклады. Теологии и философии – нет. Древние народы, такие как колена Израилевы, видели космос как великий танец, биение сердца времён года, упорядоченное в целом, но открытое для ослепительных импровизаций танцующих богов.
Греческий логос, напротив, проецировал статическую, синхронную структуру совершенного смысла. Это была система рациональной дифференциации созвездия, новая структура сознания, которая перевернула смысловые системы древнего мира. Логос был формальным инструментом, основанным на дуалистическом видении, которое устанавливало границы реальности, постулируя систему бинарных противоположностей, через которые все восприятия могли быть обработаны. Это была система фильтрации восприятий, новый путь взаимодействия реальности и развивающегося эго. Логос связан с логикой и «тем, что рационально упорядочено, как “пропорция” в математике и то, что мы называем “законом” в природе» (Додд, 263). Переход от mythos к логосу означал отказ от бессознательных символических сил в пользу рационально артикулированного эго и его способности создавать высокодифференцированную картину мира. Она упорядочила пустоту несвязанных переживаний в ряд бинарных противоположностей: да/нет, свет/тьма, присутствие/отсутствие. Более природные формы мифа и символа постепенно утрачивали своё значение. С возвышением логоса контроль над смыслом перешел от символа к силлогизму, к однозначному слову – логосу.
Таким образом, апостол Иоанн стоял на поворотном пункте в истории смысла, и его дилемма была похожа на дилемму, стоящую перед постмодернистским писателем. Старые системы символов были подавлены и вытеснены логосом. Все труднее становилось использовать mythos как формальный способ передачи смысла, с тех пор как истина стала отождествляться с результатом логоса. Но Иоанн не мог представить себе, как передать своё сложное и тонкое видение в ограниченных терминах логоса. Должно быть, ему приходилось выбирать между рациональной истиной логоса и исчерпанными формами mythos, представленными гностицизмом. Иоанн избрал третий путь: его формула «И Слово стало плотью» указывает на возрождение mythos на новом, более сложном уровне. Если бы Иоанн сказал: «Сын Божий стал человеком», то он выразил бы общее понимание смысла воплощения. Но вводя такое многозначное слово логос, он указывал, что его цель – обсудить саму природу откровения, способ, которым священное открывается познающему субъекту. «Слово стало плотью», на первый взгляд, связывает Христа с греческим Логосом, отождествляя истину с рациональным дискурсом. Но недавние исследования показали, что пролог к четвёртому Евангелию отождествляет Слово Божие не с логосом, а с Софией, древнееврейским символом мудрости.[2] Пролог основан на гимнах мудрости в Притчах (8:22-31), Премудрости Сираха (24) и Премудрости Соломона (6:12-10:21). София олицетворяет mythos, мудрость досократического мира, мира до логоса. Иоанново «Слово, ставшее плотью» утверждает притязание Софии на истину над истиной логоса, связывая древнюю мудрость с Христом, воплощённым Словом.
Начало Евангелия от Иоанна «В начале было Слово» перекликается с первым стихом Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю». Творческое слово Бога (дабар на иврите)[3] – это больше, чем знак, и больше, чем принцип порядка. Это мощная, непрекращающаяся сила, лежащая в основе и поддерживающая все сущее. София (Хохма) – это сияющее и любимое женское присутствие, близкое к Богу, и, подобно слову, она исходит «из уст Всевышнего» (Сир. 24:3, 9). Она – «дыхание силы Божией <…> чистое зеркало действия Божия» (Прем. 7:25). Она «играет», или танцует перед Богом, и она есть его «отрада изо дня в день» (Притч. 8:30). Подобно логосу, София есть интеллектуальная форма, принцип порядка, «источник ясности мысли» (Прем. 8:22). Но она – танцующая София как воплощение кинетического порядка, который наполняет развивающийся и многообразный космос. Делается акцент на её активных качествах. Она пронизывает «все разумные, чистые и тончайшие духи; ибо София подвижнее всякого движения» (Прем. 7:23). Она – «незапятнанное зеркало активной силы Бога». Она есть упорядочивающий принцип, который «удерживает все вещи вместе» (Прем. 1:7) во время «танца в его присутствии, танца повсюду в его мире» (Притч. 8:30).
Для Иоанна, как и для Ранера, ни mythos, ни логос сами по себе не являются адекватными принципами формы. Воплощенное Слово означает способ познания, сочетающий в себе ясность разума с богатой динамической непосредственностью mythos. Понимание Иоанна основано на еврейской традиции. Тора возникла как результат устной культуры, и её центральная структура основана на mythos. Типологическая трактовка Иоанном еврейских писаний отражает этот образ мышления. Его чтение – это форма мидраша, герменевтика, направленная на то, чтобы извлечь из текста множество смыслов. Он не предлагает вернуться к простым mythos дограмотных культур, но его работа предполагает возможность того, что Поль Рикер называет «второй наивностью», изменением сознания, позволяющим более непосредственно соприкоснуться с «неисчерпаемой разумностью бытия».
Предложение Ранера о новом символическом языке и способе мышления опирается не только на Евангелие от Иоанна, но и на понимание Хайдеггером того, что Dasein, «бытие в мире», есть процесс, волнообразное движение раскрытия. Бытие – это не статика, не структура законченных объектов, не присутствие, а присутствие и отсутствие, изначальное движение. Объекты – это мимолетные следы путей энергии. Мир «миров». Логос игнорирует кинетический аспект реальности и стремится заморозить бытие в управляемом «мировоззрении». Он ориентирован на контроль и использование, и он стирает кинетическое измерение бытия, чтобы объективировать реальности и использовать их. Дерево – это не форма жизни, не часть жизненно важной экосистемы, а поддающийся количественной оценке товар, который «существует», поэтому его можно потреблять. «Земля и её атмосфера становятся сырьём. Человек становится человеческим материалом, которым распоряжаются, чтобы достигнуть намеченных целей» (Хайдеггер, 111).
В своей работе над символами Ранер отвернулся от иссушающего воздействия логоса к поэтическому языку. Кинетические реальности становятся ассимилируемыми, когда они проникают через символ, «который не разделяет, так как он опосредует, но объединяет непосредственно» («Теология», 252). Как «слово-в-процессе», символ обогащает свой предмет, отшелушивая смыслы, выражая порядок мироздания становления.
В своем эссе «Теология символов» Ранер начинает с предпосылки, что «всё сущее по своей природе символично», потому что оно обязательно «выражает себя, чтобы достичь своей собственной природы» (224). С этой точки зрения Вселенная – это огромная энергетическая сеть, проявляющая себя во множестве выразительных форм: «Всякое бытие <…> в первую очередь символично... Оно отдаёт себя от себя в “другое” [свой символ] и там находит себя в познании и любви» (229). Такое обладание собой через выражение есть «не просто элемент, но содержание того, что мы называем бытием». Онтологический «акт» – это экспрессивный акт. Быть значит иметь значение.
Ничто реальное не стоит на месте. Сущность любого бытия – это его самосозидательный жест. «Любое бытие формирует <...> нечто [символ] отличное от себя и все же единое с самим собой, для своего собственного осуществления» (228). Бытие, по мнению Ранера, «множественно в своём единстве». Человеческое тело, например, является «безусловным символом» души. Многочисленные системы, составляющие тело, не являются простым противопоставлением частей; они разделяют «внутреннее согласие между собой, благодаря единству бытия». Некоторые интерпретации томистских концепций тела/души, материи/формы подчеркивают дихотомию таких элементов, но Ранер рассматривает их как части процесса, в котором взаимные движения, такие как вдох и выдох, хотя и кажутся противоположными, являются аспектами единого сложного акта (227). Ранер акцентирует внимание на кинетическом аспекте реальности как процесса: изначальное единство [душа] «удерживает себя, в то время как разрешает себя и “раскрывает” себя во множественности [тело], чтобы найти себя именно там». Там, где логос противопоставляет тело душе, Слово Ранера предполагает волнообразное, целенаправленное взаимодействие противоположностей.
В «Песне о себе» Уолт Уитмен сосредоточился на кинетических качествах бытия, описывая «Меня Самого» – полностью реализованную личность, как танец, наступающий и удаляющийся при «равных противоположностях»: «Всегда вязь идентичности, всегда различие, всегда порождает [вяжет] жизнь» (46). Тело – это полное выражение бытия, которое позволяет организующему принципу, душе, реализовать себя – познать и полюбить себя. Аналогично, дуб – это полная разработка кодов, присущих желудю. Он актуализирует потенциал семени, изначальное единство, ассимилируя множество – солнечный свет, питательные вещества – в единство бытия, которое есть дерево. В любой момент роста дуба биологу было бы трудно точно отделить корневую систему дерева от питательной среды, с которой взаимодействуют корни. Как знал Гераклит, дуб – это процесс, совокупность взаимосвязанных действий. Даже не земля, в которой живые корни протягивают свою паутину, – это инертная масса. Горные хребты поднимаются и опускаются, а сама Земля – это долгое, медленное движение. «Вы используете имена для вещей, – сказал Гераклит, – как будто они жёстко, упорно сохраняются; но даже поток, в который вы ступаете во второй раз, не тот, в который вы ступали раньше» (Мэй, 13).
Исследование Кэйтом Мэйем Рильке иллюстрирует трудности согласования Вселенной становления со статическими структурами логоса, Мэй описывает Вселенную как состоящую из «так называемых сущностей, кружащихся от одного партнера к другому в бескрайнем составном танце. Танец не является, так сказать, “необязательным” для каждого из его элементов: они делают то, что они делают, потому что находятся в танце. То, что они делают, мы любим называть “тем, что они есть”, но на самом деле такого состояния бытия не существует. Ничто просто не существует, и всё действует». (12)
Попытка вывести существа за пределы их хрупкой мимолетности и превратить в окаменелое постоянство объектов – это овеществление бытия, отказ от его кинетического измерения. Достигнутое таким образом совершенство – это иллюзия, потому что временность, «бытие навстречу смерти» – это жизненно важный аспект бытия. В своих попытках дать имя вещам, говорит Мэй, мы пытаемся передать или признать «независимое, или “свободное от танца”, существование вещей» (12). Но такие имена – пустые клетки, ибо, как говорит Рильке, «оставаться здесь негде».
Кинетическая связь между бытием и выражением постоянно находится в центре внимания современной поэзии. В произведении «Среди школьников» Йейтс рассматривает бытие каштана, «великого цветущего корня», и спрашивает: «Ты листок, цветок или ствол?» Затем он поворачивается к танцовщице, её «тело покачивается в такт музыке», «сияющий взгляд». Можно ли отделить бытие от выразительного жеста? «Как мы можем узнать танцовщицу из танца?» Когда она двигается, танцовщица осознаёт себя через выразительный жест. Пока она не начнёт, не будет ни танцовщицы, ни танца.
Стихотворение Уоллеса Стивенса «Идея Порядка в Западном Ключе» также отражает постмодернистскую загадку происхождения языка. Выразительный акт или «слово» делает реальным то, что оно обозначает. Стивенс говорит нам, что «творец песни» – это
…единая создательница мира
В котором пела. И покуда пела,
Для моря не было иного “я”,
Чем песня: женщина была творцом.
Узрев вдали шагающую вольно,
Познали: нет иного мирозданья
Мир создаёт она, пока поёт.
Мысль Ранера даёт новую отправную точку, новый образ для рассмотрения отношений между бытием и выражением. Он видит бытие как выразительный процесс; быть – это значить; все существа суть символы, все говорят, поют или движутся в гармоничной мере. Слова не являются произвольными обозначениями или статическими знаками; как древнееврейский, они участвуют в созидательной силе изначального слова Бога. Это сакраментальное слово – движущаяся матрица порядка, текучий, поддерживающий поток энергии. Нет способа отделить статичные сущности, «вещи» от структурных энергий, формирующих их: нет способа отличить танцора от танца. Gesang ist Dasein, сказал Рильке, «Пение есть бытие» (Сонеты к Орфею, 3.1).
Альтернатива логосу у Ранера – символическое мышление – вовсе не соответствует формам и стандартам логоса. Дэвид Халлибертон называет символическую мысль «самоопределяющейся инициативой с её собственным методом и движущей силой» (VII). Она действует на различных уровнях сознания в направлении характерных, но нелегко формулируемых задач. Поэтический или символический писатель не формулирует позицию, а «осуществляет движение» (Халлибертон, 157). Он танцует с бытием. Подлинная мысль (мышление, которое напоминает), выраженная в поэтическом языке, являет развивающееся бытие, «мирское» мира, и она отражает это движение в своих собственных конфигурациях. Такое истинное слово – это не статичный документ, но задумчивый спектакль.
Эссе Ранера «Священник и поэт» – пример такой перформативной прозы. Оно олицетворяет символическую мысль, вызывая танец образов, и пробуждает не рациональное согласие, а ощутимое соучастие проникновения в суть. В эссе исследуется участие человечества в акте выражения/творения, которым является космос. Точно так же как тело, по мысли Ранера, является «безусловным символом» души, сам космос существует как символ Бога, Его танец, Его тело. «Бог щедро растрачивает себя» в этом «предельном самораскрытии предельной эсхатологической истины» (20). Он порождает вселенную, своё слово, в непрерывном самоактуализирующемся экспрессивном акте. «Священник и поэт» прослеживает двойное движение посредничества / интерпретации, в котором Urworte, великие слова, опосредуют «ослепляющую яркость тайны вещей», и человеческое сознание опосредует, или транслирует, «невыраженные реальности» физического мира. Во второй фазе человеческое сознание играет роль, аналогичную роли читателя в критической теории читательского отзыва. Временные создания, если они остаются «неувиденными» или объективированными, подобны непрочитанным текстам. Без читателя тексты – это «не более чем цепочка организованных чёрных меток на странице... Сколь бы основательной она ни была, любая работа по теории рецепции на самом деле состоит из “пробелов”, как и таблицы для современной физики» (Иглетон, 76). Читатель осознает текст, «конкретизируя» его, реагируя на его неопределённость, переживая текст не как фиксированный объект, но как требовательный, привлекательный повод для участия в порождении смысла. Отказываясь объективировать создания, истинно видя их, «читая» их, познающий даёт им полное выражение.
По мнению Ранера, значение слов основано на их функционировании как посредников подавляющего блеска бытия. Чистый акт, или бытие, настолько превосходит человеческую способность восприятия, что его можно увидеть только тогда, когда он фильтруется или частично преломляется средой, которая содействует и в то же время сопротивляется полной передаче. Человеческое бытие, или Dasein, бытие-в-мире – это процесс, вечно находящийся в кинетическом состоянии «присутствия-отсутствия», временного «ещё нет и уже». Выявление реальности происходит как взаимный процесс откровения и сокрытия, соответствующий строфическому движению человеческого существа. Если бы Бог «захватил нас и весь мир прямо в ослепительное сияние» (12) своего существа, мы бы погибли из-за яркости Его лика. Ранер цитирует слова поэта Рильке о невыносимой интенсивности смысла. «Первая Дуинская Элегия» начинается с образа ангелов, подавляющих блистательные присутствия или действия, которые представляют собой не опосредованный опыт трансцендентного смысла и чистого действия, «неисследованные, ужасные расстояния». Столкнуться с неопосредованным существом было бы невыносимо:
Если я закричу,
кто услышит средь ангельских чинов?
А и если
один из них
примет вдруг к сердцу мой крик
– содрогнусь.
Мне не выжить с ним рядом,
с Огромным Его Совершенством.
Красота – только первый укол
ужаса
переносимый…
(Пер. Ольги Слободкиной – vom Bromssen.)
Если бы кто-то увидел чистое бытие лицом к лицу, то, как говорит Ранер, «было бы слишком много яркой красоты для наших сердец» («Священник», 26).
Вместо этого раскрытие требует понижения интенсивности бытия, чтобы приспособить её к человеческим способностям. Символ раскрывает своего референта косвенно, показывая нам не то, что он есть, а то, на что он похож. Наклонное, косое отражение рассеивает яркость в терпимую ауру смысла. Сакраментальный акт бытия Бога, Божественное Слово, наиболее адекватно отражается в символе. «Он приходит в слове. Он не может прийти иначе, как в виде слова» (12).
Ранер начинает «Священник и Поэт» с обсуждения слов, используемых в качестве счётчиков в рациональном научном дискурсе. Такие слова «загадочно плоские и бесцветные. Их вполне достаточно для нашего ума. С их помощью мы можем иметь власть над вещами» (4). Он признает, что логос «аналитичен, мозаичное композиционное мышление является более ясными и понятным», но он утверждает, что Urwort, такие как «вода», с её богатством мифических смыслов, богаче, более фундаментальна, чем Н2О ученого: «Вода химии – это скорее суженная, технически производная вторичная по природе к воде человека» (4).
УР-слова резонируют с архетипическими смыслами: «Цветок, Ночь, Звезда и День, Корень и Купель, Ветер и Смех, Роза, Кровь и Земля, Мальчик, Дым, Слово, Поцелуй, Просветление, Дыхание, Тишина» (6). Такие слова, составляющие основу символического языка, «подобны вратам – красивым и сильным, простым и уверенным» (25). Они открывают в сердце «тайны единства во множестве». «Благоухающие врата» поэтической мысли открываются во внутреннее пространство, в котором мы переживаем реальность вещей со свежестью, недоступной через объективированный мир логоса. Вкратце, они позволяют взаимодействовать с неисчерпаемым значением кинетической Вселенной. УР-слова – это «дети Божьи, которые обладают чем-то от сверкающей тьмы своего Отца» (6). Под «великими словами» Ранер имеет в виду не «просто отдельные слова, а всё то, что сказано человеком, что сильным и полным образом выводит вещи из той тьмы, где они не могут оставаться, в свет человека» (9). Символический язык, игра великих слов, отражает и реализует игру Вселенной.
Слово поэта выполняет посредническую функцию, позволяя вещам стать «невидимыми» (по выражению Рильке), но не непознаваемыми, как блистательный и ужасный ангел. Чтобы проиллюстрировать человеческую задачу посредничества, Ранер цитирует «Девятую Элегию» Рильке»:
Разве же мы на Земле
для того чтоб сказать:
Дом
Мост
Фонтан
Кувшин
Ворота
Фруктовое дерево
Или Окно?
В лучшем случае:
Башня
Колонна…?
Но говоря
эти слова,
ты понимаешь –
и с той интенсивностью,
коей и вещи-то сами не знали,
что выразить могут…
(Пер. Ольги Слободкиной – vom Bromssen.)
Ранер говорит: «Только тот, кто понимает эти строки поэта, может понять, что мы подразумеваем под великими словами» («Священник», 7). Рильке взывает поэта Орфея, чья функция заключается в том, чтобы привести физический мир к порядку и значению (Мэй, 64). Танцующие животные из мифа об Орфее означают вступление мира в божественную игру смысла. Музыка Орфея, слово поэта, превращает то, что пусто и статично, в движение смысла.
«Все реальности, – говорит Ранер, – давно уже раскрыты. Они хотят войти в свет знания и любви если не как познающие, то хотя бы как познанные» («Священник», 9). Вещи хотят «прийти к слову». Читатели «понимают» тексты, преобразуя знаки на странице в смыслы так, что «вещи» раскрываются в полной мере в том, как поэт произносит их имена. По мнению Ранера, слова подобны «духовным телам» для вещей. Вещи находят выражение в словах как души в телах, и таким образом осознают самих себя символическими существами. «Вещи в своём духовном слове-теле прильнут к сердцу того, кто знает и любит их» («Священник», 9). Человеческая функция состоит в том, чтобы поглощать вещи, превращать их в смысл и бытие, любя их и произнося их. Рильке описывает этот процесс в «Девятой Дуинской Элегии», когда говорит:
И все эти вещи,
чья жизнь начинается
в непостоянстве,
они понимают,
что ты воспеваешь их,
и, погибая,
они доверяют нам,
нам, подверженным гибели
больше всего –
за их сохранение.
Они лишь хотят,
чтобы мы
изменили их полностью
в нашем невидимом сердце
и превратили – о, Бесконечность,
в самих же себя,
то есть в нас,
кем бы мы
не предстали в конце.
(Пер. Ольги Слободкиной – vom Bromssen.)
Ранер рассматривает этот непрерывный процесс как участие в божественном танце бытия. Порядок реальности – это формирующееся созвездие, в которое поэт втягивает статичные «невыраженные реальности». Истинно видя вещи и говоря их, поэт делает возможным их смысл. По словам Ранера, поэт спасает их от «немоты их обращения к Богу» («Священник», 10). Вещи «становятся более самими собой», они приобретают «интимность бытия, когда познаются» («Священник», 8). Поэзия Рильке вновь выражает и усиливает значение Ранера. Поэт сравнивает человеческое восприятие «невыраженных реальностей» вещей с пчёлами, производящими мёд: «Как пчёлы собирают мёд, так и мы собираем самое сладкое из всех вещей и строим Его» (Письма, 62). «Наша задача состоит в том, чтобы запечатлеть эту предварительную, преходящую землю на себе с таким большим страданием и такой страстью, чтобы её природа снова поднялась “невидимой” внутри нас. Мы – пчёлы невидимого мира. Мы непрестанно собираем мёд видимого, чтобы хранить его в огромном золотом улье невидимого» (Письма, 130).
Для Ранера, как и для Рильке, человеческая программа – это собирание и развитие энергий физического мира для того, чтобы повысить их значимость и реализовать их бытие. В «Письмах к Молодому Поэту» Рильке говорит о Боге как о «конечном плоде дерева, листьями которого мы являемся». Он говорит страдающему поэту, что, возможно, тот, кто приходит, «нуждается в этой самой вашей тоске, чтобы начать; эти самые дни вашего перехода, возможно, являются временами, когда всё в вас работает на Него, как вы когда-то работали на Него в своем детстве, затаив дыхание» (61-63). Рильке советует поэту «быть терпеливым и без горечи» в этом предприятии: «Поймите, что самое меньшее, что мы можем сделать, – это сделать его появление на свет не более трудным для Него, чем Земля для весны, когда она хочет прийти». Для Ранера человеческое сердце – это сосуд трансформации, который делает инертную массу «вещей» усваиваемой, наполненной смыслом. «В последний день, – говорит он, – из всей этой объективной реальности в вечные житницы Бога будет собрано только то, что вошло в живые сердца» («Священник», 19).
Слово поэта – это, как и библейское Слово, активное начало. Слова – это, по словам Ранера, «акты любви», тянущиеся «к недостижимому совершенству» («Священник», 25). Способность поэта видеть вещи такими, какие они есть, освобождать их от овеществления логоса, проистекает из его незащищённого принятия смертности, этого наиболее значимого для человека из динамических элементов реальности. Расчётливое, самоутверждающееся мировоззрение логоса объективирует реальность и сводит её к устойчивой, но безжизненной конструкции. Бегство эго от смертности заканчивается заменой живых реальностей резными изображениями. Но поэт отваживается выйти за безопасные пределы логоса, чтобы призвать смертные вещи в пространство сердца. Он – архетипический герой, отдающий свою жизнь, свою индивидуальность, чтобы позволить себе трансформацию. Он охотно вступает в «мир умирающих поколений», чтобы обратить вспять объективирующее побуждение воли, и в перегонном кубе своего сердца объекты достигают «невидимости» духа.
Из-за того что их видят и говорят, вещи становятся значимыми. Больше не пустые и не немые, они обретают голоса и вступают в танец. Поскольку поэт позволяет миру воздействовать на него, ему позволено говорить от его имени. Мир и поэт артикулируют друг друга: «Мир, таким образом, говорит через нас, а мы через него, и для этого требуется определенная жертва, каждый для другого становится своего рода самоотверженной жертвой, Евхаристическим хлебом, который позволяет каждому быть хозяином для другого» (Блоджетт, 3).
Ранер называет поэта хранителем «изначального таинства реальности». Он стоит между человечеством и «сияющей прямотой абсолютной полноты Бога» в физической Вселенной. Поэту «даётся слово, посредством которого и в котором реальности выходят из своих тёмных тайников и выходят на свет человека, чтобы благословить и наполнить его» («Священник», 11).
Язык символов Ранера – это попытка перевести воплощённое Слово Иоанна, чтобы принять участие в его Откровении. В совместном движении выражения и усвоения, которое является онтологическим движением всего сущего, природа высказывания и истины предстает в новом свете. Логос предлагает истину прозрачной референции в силлогизме и научном языке. С структуралистской точки зрения референциальность является полностью внутренней в том смысле, что смыслы определяются функциями внутри замкнутых систем, а именно как значение ладьи на шахматной доске фиксируется правилами игры. Логос имеет дело с субъектами и объектами, с фиксированными взаимодействиями в замкнутых системах. Его истинность пропорциональна сознанию, сформированному механическими правилами рациональности.
Символический язык не играет по правилам, он танцует. Подобно тому как София Ветхого Завета отражала сознание, сформированное символом, настроенное на ритмы и мотивы типологии, так и символический язык Ранера отражает движение мира. Читатели, привыкшие отождествлять истину с однозначным словом, противоположностями и антиподами логоса, могут быть обеспокоены меняющимися перспективами танца. Поэтическое слово может показаться сродни какофонии Вавилонской башни. Другие читатели, не реагируя на логос, выбрали молчание гнозиса; подобно Фуко, они теряют «язык в оглушающей ночи» (Шауб, 314).
Символический язык Ранера – это альтернатива логосу, Вавилону и молчанию. Подобно Софии, подобно Слову Иоанна, он предлагает личную ассимиляцию бытия. Он предлагает кинетический, увлекательный танец с бытием. Как новый Иерусалим был построен на месте Эдемского Сада, так и язык символов возникает из погребённых форм древних mythos. Если mythos – это утраченный язык Сада, то символический язык Ранера – это пятидесятническое Слово ещё не реализованного Царства.
Поскольку символы вытекают из другой матрицы, чем логос, они могут говорить о тех самых вещах, о которых говорил Витгенштейн: «Всё, что имеет значение, – это точно <...> то, о чём мы должны молчать» (151). Язык символов праздничен и изыскан, он окружает свой предмет, как литания, произнося «Дом из Золота, Башня из Слоновой Кости», вторя и благословляя великолепие бытия. Это язык, который Хайдеггер определил как «храм бытия» (132). Его истина – не единичная, не белая ясность логоса, а преломленный свет, раскрашенный призмой человеческих сердец.
Ранер завершает своё эссе сравнением медиативной функции двух ролей – священника и поэта. Обе – преобразующие принципы. Самоотверженное отношение поэта – «бытие навстречу смерти», открытое смертности, – позволяет появиться символу, преобразующему сухой факт в питающий смысл. Сама жертвенная роль священника, выраженная в словах «Сие есть Тело Мое», есть посредник, посредством которого простой хлеб становится таинством Божественного Тела: чистое бытие становится усваиваемым. Функции священника и поэта указывают на расширяющуюся последовательность воплощения. В «великих словах» поэта «есть дух и плоть, то, что подразумевается, и его символ, идея и слово, вещь и образ – всё так же, как и в начале, едино, со всей свежестью зари» («Священник», 6). Через слова поэта «вещи», пустые предметы, обретают смысл и полностью и немедленно поглощаются человеческим сознанием.
Деятельность посредника также отражает «изначальное таинство реальности, то есть непрерывное божественное самовыражение, осуществляемое во Вселенной» («Священник», 11). Чистое бытие выходит из себя (существует), чтобы выразить себя в своём символе, существующем объекте. Смысл возникает там, где бытие находит или создает выразительную среду и трансформируется в становление или символ. Невообразимый переход от чистого бытия к грядущему – это Событие, танец Вселенной, и он происходит и становится терпимым только через посредничество.
В процессе выражения и ассимиляции, то есть созидания реальности, субъект и объект, оставаясь самими собой, достигают единства бытия и символа, или танцора и танца. Божественное Слово является посредником, активным началом, священником и поэтом в этом взаимном изменении. «Мир и его история, – говорит Ранер, – это ужасающая, возвышенная литургия смерти и жертвоприношения, которую Бог совершает сам себе через посредство человечества» («Таинство», 74).
Перевел священник Николай Зинин
Источник: Clasby N., Dancing Sophia: Rahner's Theology of Symbols, Religion & Literature, vol. 25, No. 1 (Spring, 1993), pp. 51-65.
Библиография
Blodgett, E. D. and H. G. Coward, eds. Silence, the Word and the Sacred. Calgary: Wilfred Laurier UP, 1989.
Dodd, C. H. The interpretation of the Fourth Gospel. Cambridge: Cambridge UP, 1953.
Doran, Robert M. Subject and Psyche: Ricoeur, Jung and the Search for Foundation. New York: University P of America, 1977.
Eagleton, Terry. Literary Theory: An introduction. Minneapolis: U of Minnesota P, 1983.
Fiorenza, Elizabeth Schussler. In Memory.of Her. Cambridge: Crossroad, 1983.
Halliburton, David. Poetic Thinking: An Approach lo Heidegger. Chicago: U of Chicago P, 1981.
Handelman, Susan. The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic interpretation in Modern Literary Theory. Albany: SUNY Press, 1982.
Harris, Stephen L. Understanding the Bible. Third ed. Mountain View, CA: Mayfield, 1992.
Heidegger, Martin. "What are Poets for?" Poetry, Language, Thought: Martin Heidegger. Ed. Albert Hofstadter. New York: Harper, 1971. 89-I43.
Kahler, Erich. "The Persistence of Myth.• Chimera (Spring 1946): 320-44.
Kermode, Frank. "John” The Literary Guide to lhe Bible. Ed. Robert Alter and Frank Kermode. Cambridge: Harvard UP, 1.987. 440-66.
Lindars, Barnabas. The Gospel According to St. John. London: SPCK, 1955.
May, Keith. Nietzsche and Modern Literature. New York: St. Manin's, 1988.
Rahner, Karl. "How to Receive a Sacrament and Really Mean It." The Sacraments: Readings in Contemporary Sacramental Theology. Ed. Michael J.Taylor, S.J. New York: Alba House, 1981. 71-81.
”Priest and Poet." The Word: Readings in Theology. Ed. R.A.F. Kennedy. New York: P.J. Kennedy, 1964. 3-26.
"The Theology of the Symbol." A Rahner Reader. Ed. Gerald McCool. New York: Seabury, 1975. 120-31.
Rilke, Rainer Maria. Letters to a Young Poet. Trans. Stephen Mitchell. New York: Random, 1984.
Selected Poetry. Trans. Stephen Mitchell. New York: Random, 1989.
Schaub, Uta Liebmann. “Foucault's Oriental Subtext." PMLA 104 (May 1989): 306-17.
Schnackenburg, Rudolf. The Gospel According to John. Vol. 1. New York: Herder, 1968.
Stevens, Wallace. Collected Poems. New York: Knopf, 1964.
Whitman, Walt. Works. Ed. Malcolm Cowley. 2 vols. New York: Funk and Wagnalls, 1968.
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico·Philosophicus. Trans. D.F. Pears and B. McGuinness. London: Routledge, 1961.
[1] Эрих Калер отмечает, что греческое слово mythos этимологически происходит от mu, предполагая элементарные звуки, такие как рычание зверей и гром (сравните mutter (бормотание), mute (немой), латинское mugire, также греческое muein, myein (закрыть), от которого происходят «таинство» и «мистика»). В классический период словом mythos стали обозначать «слово». Гомер, например, употребляет его «в противоположность ergon, деяние; оно почти не отличалось от других греческих терминов, обозначающих слово, эпос и логос. Но постепенно употребление стало более определённым: mythos стал словом как самое древнее, самое первоначальное повествование о происхождении мира, в божественном откровении или священном предании» (230).
[2] Об отношениях между Мудростью и логосом см. Харрис, 326-28 и Шнакэнберг, 225. О Софии как «Боге Израиля в языке и образе богини» см. Фиоренца, 133-35. Филон Александрийский попытался в первом веке нашей эры примирить греческую и еврейскую мысль: «Филон использовал еврейское понятие мудрости как творческого посредника между трансцендентным Творцом и материальным творением, но он использовал греческий термин Логос для обозначения его роли и функции. (Филон, возможно, предпочел Логос, потому что он по-гречески мужского рода, тогда как Мудрость [София] – женское начало)» (Гаррис, 326). О Евангелии от Иоанна как поэме жизненных перемен, повествующей о божественном переходе от бытия к становлению, см. Кермода, 447. На иврите emeth – «правда», см. Линдар. По словам Иоанна, Логос «полон благодати и истины». В еврейских писаниях эта пара существительных (hesed и emeth) представляет сущность того, что Бог открывает человечеству. В теофании Моисею (Исход 33:12) Бог являет свой hesed (благодать или милость и сострадание) и emeth (непоколебимая любовь и верность). Emeth соответствует aletheia по-гречески и veritas по латыни. Греко-латинские термины предполагают абстракцию бестелесной, теоретической «истины», в то время как еврейское emeth означает истину как верно раскрытую во взаимном обязательстве (ср. среднеанглийский trouthe). «Его смысл колеблется между более греческим идеалом абсолютной истины и более еврейской идеей непоколебимости своего характера» (Линдар, 95-97).
[3] Сьюзен Гендельман (32-33) противопоставляет еврейское значение слова dabar, или davar, греческой концепции однозначного слова. «Davar – это не просто вещь, но и действие, действенный факт, событие, материя, процесс». Там, где греческая мысль стремится искать однозначный смысл, раввинская мысль, выраженная в способах понимания Писания Иоанном, стремится к метафоре и многозначности.
Комментарии