
Апробация Первого Уголовного кодекса РСФСР на духовенстве, мирянах и церковном народе Петрограда
Современная историография разделяет взаимоотношения Русской Православной Церкви и Советского государства по их характеру на несколько периодов. Большинство исследователей сходятся на том, что первый период охватывает пять лет (1917–1922 гг.), от первого натиска на Церковь до второго, после некоторого относительного затишья. Советская власть все мерила пятилетками, а в 1922 году она отпраздновала пятилетие революции громкими процессами над духовенством.
К 1921 году, после войн, революций, красного террора, «военного коммунизма» и страшного голода, причиной которого была не только засуха, но и аграрная политика советской власти, страна буквально лежала в руинах.
РСФСР готовилась к переходу к НЭПу и участию в Генуэзской конференции. Было известно заранее, что за политическое признание РСФСР будет потребовано возмещение долгов Российской империи.
Голод 1921–1922 гг. показался властям удобным периодом времени, а обращения Карловацкого собора к Генуэзской конференции и к «чадам Русской Православной Церкви в рассеянии и изгнании сущим» – удобным поводом для того, чтобы обвинить Церковь в антигосударственной политической деятельности и поправить за ее счет свои финансы, источником которых все пять лет владычества советской власти были одни лишь экспроприации. Параллельно стояла задача поставить Церковь «на место» и при помощи «прогрессивной группы» духовенства – расколоть, так как Церковь во все времена представляла собой большую силу.
Поэтому с начала 1922 года Советская власть в спешном порядке заканчивала работу над Уголовным кодексом, целью которого было придать дальнейшим экспроприациям «законные формы».
23 февраля нарком Наркомюста Д.И. Курский рапортовал В.И. Ленину о том, что «работа адова» близка к завершению: «Обращаю Ваше внимание также и на ту, поистине египетскую работу, которую, как, например, в области уголовного права, самостоятельно (без прецедентов и активного участия спецов) пришлось проделать за последние 2-3 месяца, когда приходилось заваленным канцелярской работой членам комиссии работать над законодательством буквально ночами».
Первый УК РСФСР 1922 г. состоял из 218 статей, и перечень предусмотренных им преступных деяний в целом был основан на системе преступлений, предусматривавшихся декретами 1917–1921 годов. Исключены были деяния, «утратившие преступный характер в связи со сворачиванием политики военного коммунизма», и добавлены составы хозяйственно-экономических преступлений, ставших актуальными вследствие введения НЭПа. Кодекс состоял из Введения, Общей и Особенной частей. Общая часть регулировала пределы действия кодекса, общие начала применения наказания, определение меры наказания, роды и виды наказаний и т.д. (Ст.ст. 1-56). Особенная часть УК состояла из восьми глав (Ст.ст.57-227). Государственные преступления, т.е. преступления, направленные против Советской власти, в первой главе Особенной части назывались «контрреволюционными», определение их основывалось на письме Ленина И.Д. Курскому от 7 мая 1922 года: «…Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас…» Название третьей главы Особенной части (Ст.ст. 119-125) звучало так же, как в проекте УК 1921 года: «Нарушение правил об отделении Церкви от государства», но по сравнению с ним глава была расширена.
Согласно ст. 24. Кодекса, «все дела о преступных деяниях подсудны народному суду, за исключением дел, отнесенных законом к ведению революционных трибуналов», а согласно ст. 28., « ведению революционных трибуналов исключительно подлежали дела о преступлениях государственных, предусмотренных ст. ст. 57—73; 119» и некоторыми другими. Статьей 33 предусматривалось, что «по делам, находящимся в производстве революционных трибуналов впредь до отмены Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, в случаях, когда статьями настоящего кодекса определена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел»[1].
И не сразу, а именно 23-го февраля, в день рапорта наркома наркомюста Ленину о практическом окончании работы над кодексом, в виде декрета было опубликовано постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих от 16 февраля 1922 года.
Проводить кампанию «изъятия церковных ценностей» должны были люди проверенные, специально подготовленные, и еще 6 февраля 1922г. ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Работа по изъятию церковных ценностей и расколу Церкви проводилась под руководством секретаря комиссии по проведению декрета об отделении Церкви от государства (при ЦК РКПб-ВКПб – Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПб), а с 1922 года – начальника 6 отдела ОГПУ Е.А. Тучкова. В Петрограде кампанией изъятия ценностей руководил И.П. Бакаев, бывший в 1919–1920 гг. председателем Петроградской Губернской ЧК.
23 февраля 1922 года произошло еще одно событие: был «восстановлен забытый праздник», т.е. установлен как государственный праздник, День Красной Армии и Флота. Сами комиссары точно не могли определить, какие собственно победы 1918 года они праздновали, разве что взрыв пироксилинового склада.[2] А скорее всего, праздновалось не что иное, как пятилетие Февральской революции и организации Красной не армии, а гвардии. Товарищи ведь не праздновали «четырехлетки», они праздновали «пятилетки». Интересно то, что этот день празднуется до сих пор.
Первый Уголовный кодекс РСФСР вступил в силу 1 июня 1922 года и впервые был опробован на духовенстве Петрограда. На процессе над московским духовенством, проходившем в мае 1922 года, использовался проект УК 1921 года.
Главным обвинителем на Петроградском процессе 1922 г. стал зам. наркома Наркомата юстиции, один из авторов декрета об отделении Церкви от государства П.А. Красиков, вошедший в Исполком Петросовета в феврале 1917 года, вместе с И.П. Бакаевым.
Процесс Петроградских церковников, или Петроградский процесс 1922 года, историки, как правило, образно называют «Делом митрополита Вениамина», по названию одной из первых работ на данную тему, в память о владыке, по имени главного обвиняемого. Прямые потомки осужденных на процессе имеют возможность ознакомиться с материалами следствия в Архиве УФСБ, из которых следует, что на процессе Петроградских церковников по делу № 1287 было осуждено более 80 человек. Главным обвиняемым на процессе стал митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин, однако, в отношении владыки митрополита отдельного делопроизводства не было.
Первым в ходе кампании изъятия церковных ценностей в 12 часов ночи 29 апреля 1922 г. был арестован председатель правления «Общества православных приходов Петрограда и его губернии» Ю.П. Новицкий, член правления настоятель Исаакиевского собора прот.Л.Богоявленский и большая часть состава правления. Ю.П. Новицкий и отец Леонид были отправлены в Выборгскую женскую тюрьму.
Аресты членов правления продолжались в течение всего мая. Товарищ председателя правления прот.Н.Чуков немедленно организовал помощь заключенным в плане съестных и др. передач в организации защиты в случае суда и т.д. По доходившим от заключенных сведениям, они были арестованы именно как члены правления «контрреволюционной организации».
Несмотря на то, что «изъятие» в его соборе прошло «без крови», и было сдано практически все имевшееся серебро, за исключением выкупленных священных предметов, 30 мая настоятель Казанского собора Петрограда, ректор Петроградского Богословского института прот.Н.Чуков также был арестован, по обвинению в «сопротивлении изъятию церковных ценностей»...[3]
31 мая был арестован настоятель Свято-Троицкого собора Измайловского полка прот. Михаил Чельцов. Он не имел никакого отношения к «Обществу православных приходов Петрограда и его губернии», поскольку со своим приходом он в общество не вошел. Более того, как он сам писал, он находился в оппозиции к нему, «…и лично, и принципиально во враждебном настроении», считая почему-то, несмотря на то, что епархиальные советы были ликвидированы повсеместно, что «Общество» содействовало закрытию Петроградского Епархиального совета, председателем которого был он. Так же враждебно относился о. Михаил и к Петроградскому Богословскому институту, в корпорацию которого он не попал, и средствами прихода в его содержании не участвовал. «“Но я ошибся, – писал далее прот. Михаил. – Советской власти нужно было разделаться со всеми более или менее видными священниками. К тому же моя фамилия попалась в одной записке протоиерея Н.К. Чукова, говорившей об одном частном собрании на квартире Аксенова”. О том, как происходило изъятие ценностей у него в соборе, прот. Михаил в своих воспоминаниях совсем ничего не написал, но и он не связывал причину своего ареста с изъятием ценностей».[4]
В отличие от прот.Н. Чукова, о. Михаил не вел дневника в тюрьме, а спустя несколько лет описал в «Воспоминаниях «смертника» о пережитом» свою встречу в ходе процесса с Ю.П. Новицким: «Я помню одну только фразу Новицкого, обращенную ко мне: “Вас вместе с нами к расстрелу?! А знаете ли, Вы наилучший повод к кассации”. Так же считал и общественный защитник профессор уголовного права А.А.Жижиленко…»[5]
Прибывший в Петроград весной 1921 года архимандрит Сергий Шеин, управляющий бывшего Троице-Сергиева Патриаршего подворья, в помещении которого расположился Петроградский богословский институт, был весьма пассивным членом правления «Общества приходов» и буквально спал на собраниях, как писал в дневнике прот.Н.Чуков. А его взаимоотношения с Богословским институтом к весне 1922 года сделались настолько натянутыми, что институт уже подыскивал другое помещение для своей домовой церкви. Очевидно, что так же, как прот. Михаил Чельцов, после ликвидации Епархиального совета работавший в канцелярии митрополита, архим. Сергий был привлечен как посланец Патриарха.
После отлучения о.о. Введенского и К°, произошедшего 28 мая, митрополит Вениамин, был заключен ГПУ под домашний арест, а в ночь с 1 на 2 июня также был увезен на Гороховую улицу.
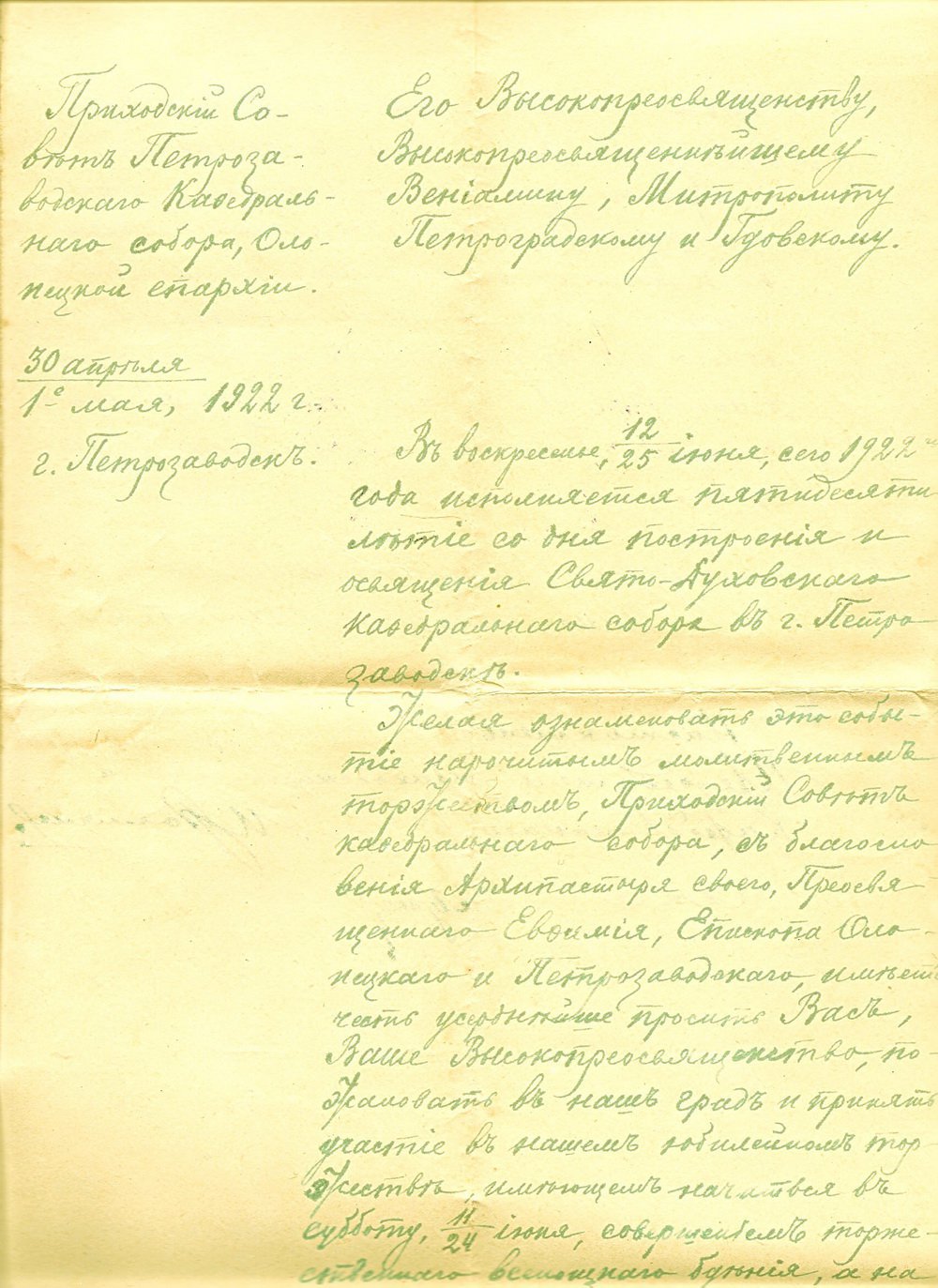 А ведь 11 (24) июня владыку Вениамина и прот.
Николая с матушкой ждали на родине, в Петрозаводске, на празднование 50-летия Свято-Духовского
кафедрального собора. Не довелось…
А ведь 11 (24) июня владыку Вениамина и прот.
Николая с матушкой ждали на родине, в Петрозаводске, на празднование 50-летия Свято-Духовского
кафедрального собора. Не довелось…
Известно, что лидер «прогрессивного духовенства» прот. Введенский, в течение нескольких лет находившийся в ближайшем окружении владыки, присутствовал в Лавре при аресте митрополита, приехав туда вместе с Бакаевым. Бытует легенда, что он подошел под благословение, а митрополит ему в благословении отказал, сказав: «Отец Александр, мы же с Вами не в Гефсиманском саду».[6]
Однако больше доверия вызывают воспоминания о том роковом дне наместника Александро-Невской лавры епископа Петергофского Николая (Ярушевича), впоследствии митр. Крутицкого и Коломенского: «После ареста митрополита он в течение некоторого времени содержался в Лавре; в эти дни наместнику Лавры назначено было посещать находящегося в заключении митрополита. Во время одного из таких посещений владыка-митрополит рассказал наместнику об обстоятельствах своего ареста; при этом он заметил, что во время своего ареста он мельком видел стоявшего в коридоре А.И. Введенского (который под благословение к нему не подходил). Рассказывая об этом, митрополит сказал: «Как это все похоже на Гефсиманский сад».
После ареста митрополита власть лишь номинально находилась в руках еп. Алексия (Симанского. – Л.А.), который дела епархии так и не принял, живя в это время у своего отца на Дворянской улице в полном «затворе». Когда встал вопрос о снятии запрещения с А.И. Введенского, состоялось совещание по этому поводу четырех викариев-епископов Алексия, Венедикта (Плотникова. – Л.А.), Иннокентия (Тихонова. – Л.А.) и Николая (Ярушевича. – Л.А.): пришли к выводу, что в отсутствии митрополита запрещение не может быть снято. Еп. Алексий, принимая на себя ответственность, вопреки мнению своих собратий снял запрещение и издал свое известное воззвание. Еп. Совет в это время уже не функционировал».[7]
Авторы Левитин и Шавров писали, что первый викарий, епископ Ямбургский Алексий, после ареста митрополита «был вызван в некое нецерковное учреждение (помещавшееся по Гороховой ул., 2), и ему был предъявлен ультиматум: трое священников, отлученных митрополитом от церкви, должны быть восстановлены в своих правах – в противном случае митрополит будет расстрелян. Епископ Алексий, ссылавшийся сначала на свою некомпетентность, затем просил дать ему неделю на размышление. Эта просьба епископа была удовлетворена...» Викарные епископы – собратья владыки Алексия – также не были едины во мнениях по этому поводу. В конце концов решили, что необходимо идти на все для спасения жизни владыки-митрополита... В результате епископ Алексий составил соответствующее послание к петроградской пастве (текст его см. ниже). Как бы то ни было, 4 июня 1922 года, в праздник Троицы, в Лаврском соборе среди молящихся распространялось следующее воззвание епископа Алексия:
 «Обращение к Петроградской православной
пастве.
«Обращение к Петроградской православной
пастве.
В настоящее время Петроградская православная паства находится в чрезвычайном волнении, которое в иных местах переходит в открытые выступления, как мне официально сообщено государственной властью и некоторыми представителями духовенства, выступления, явно нарушающие общественный порядок и тишину, навлекающие подозрения в политических побуждениях… Одним из поводов к волнениям и смущениям послужило, между прочим, известное послание митрополита Вениамина от 15 мая, где он объявляет отпавшими от церковного общения протоиерея Александра Введенского и всех присоединившихся к нему. Основанием к этому посланию для Владыки была недостаточная наличность доказательств в том, что протоиерей Александр Введенский участвует в Высшем Церковном Управлении, имея на то благословение Патриарха Тихона. Рассмотрев данные, представленные мне прот. А.И.Введенским, и приняв во внимание новые доказательства, что такое благословение имелось налицо, я нашел возможным как непосредственный и законный преемник Владыки Митрополита Вениамина по управлению Петроградской епархией подвергнуть это дело новому рассмотрению. Протоиерей Введенский представил мне прошение, в коем он свидетельствует, что он желает быть верным сыном Православной Церкви, пребывает в каноническом общении со своим епископом и что сам он никогда не прерывал этого общения и просит разрешить то тягостное недоразумение, которое произошло в настоящее время в связи с его действиями. Владыка Митрополит сам считал достаточным для восстановления общения с прот. Введенским и теми, кто с ним действовал, представления ими исчерпывающих доказательств того, что они имели благословение Святейшего Патриарха. Ввиду исключительных условий, в какие поставлена Промыслом Божиим церковь Петроградская, и, не решаясь подвергнуть в дальнейшем мире церковном какого-либо колебания, я, призвав Господа и Его небесную помощь, имея согласие Высшего Церковного Управления, по преемству всю полноту власти замещаемого мною Владыки Митрополита, принимая во внимание все обстоятельства дела, признаю потерявшим силу постановление Митрополита Вениамина о незакономерных действиях прот. Александра Введенского и прочих упомянутых в послании Владыки Митрополита лиц и общение их с церковью признаю восстановленным. В тяжелую минуту церковных смут соединимся в любви друг к другу, будем молиться, чтобы грядущий православный церковный Собор успокоил все мятущееся и дал новые благодатные силы всем нам служить Господу и миру церковному. "Тем же убо, - по апостолу, - мир возлюбим и яже к созиданию друг ко другу". (Римл.14,19). Управляющий Петроградской епархией Алексий, епископ Ямбургский».
«А вы знаете, хорошо быть триумфатором, хорошо…» - сказал тогда прот. Введенский.
Когда епископ узнал, что митрополит Вениамин все же приговорен к расстрелу, он разрыдался, как ребенок…[8]
По делу 1287 преосвященный Алексий проходил как свидетель[9].
Прот.А.Введенский являлся одним из учредителей и входил в правление «Общества приходов». Еще до письма 12-ти, 18 февраля 1922 г., в «Правде» он поместил свое «воззвание» «Ко всем русским и западным христианам» о помощи голодающим, несмотря на предупреждения владыки Вениамина без его ведома ничего в данном вопросе не предпринимать, за что правление «Общества приходов» подвергло его резкой критике. Немедленный выход после этого прот. Введенского из правления «Общества приходов» говорит о том, что заранее планировалось уничтожение этой общественно-церковной организации. Определение «обновленцы» появится в дневнике прот. Николая только 12 июля 1923 года, то есть после первого послания Патриарха по освобождении 15(28).06.23, котором он запрещает в служении еп. Евдокима Мещерского и Антонина Грановского, и других и передает их «каноническому суду Православного Собора».[10]
При аресте заключенных допрашивали, изымали вещи, по домам устраивали обыски и засады. 8 июня им был вручен обвинительный акт чуть ли не на 500 страницах, не предвещавший ничего хорошего 16 заключенным. Остальным вменялась меньшая вина.
 10 июня был первый день суда. Допрос
обвиняемых продолжался в течение первых двух недель, затем начался опрос
свидетелей. К процессу привлечена была масса народа. Людей хватали «направо и
налево»: за «участие в толпе» при беспорядках во время изъятия церковных
ценностей, за распространение воззваний митрополита – хватали вообще «кого
вздумается». Ругали отборной руганью только за то, что человек крестился на
церковь, били рукоятками револьверов ни в чем не повинных людей и т.д., не зная
затем, что вообще предъявить на суде многим арестованным.
10 июня был первый день суда. Допрос
обвиняемых продолжался в течение первых двух недель, затем начался опрос
свидетелей. К процессу привлечена была масса народа. Людей хватали «направо и
налево»: за «участие в толпе» при беспорядках во время изъятия церковных
ценностей, за распространение воззваний митрополита – хватали вообще «кого
вздумается». Ругали отборной руганью только за то, что человек крестился на
церковь, били рукоятками револьверов ни в чем не повинных людей и т.д., не зная
затем, что вообще предъявить на суде многим арестованным.
Много людей было привлечено совершенно случайных, и их отпускали. В ходе суда некоторые свидетели переходили в разряд обвиняемых, было и наоборот.
Беспрецедентное судилище, похожее на трагический театр абсурда, продолжалось в течение 25 дней.
Процесс явно был показательным, вход был как на зрелище – по билетам, выданным в Ревтрибунале, по партбилетам (РКП) и даже по студенческим удостоверениям. Требовалось предъявление билетов при входе и по выходе из зала и из здания Дворянского собрания, уже ставшего в 1922 году филармонией.
Революционный трибунал состоял из 6 человек, а председательствовал некто Семенов, молодой человек лет 25, выдававший себя за студента.
Как оказалось, менее всего обвинение интересовал вопрос о церковных ценностях, поскольку все, что требовали, было сдано. Основными вопросами были: отношение к Карловацкому Собору, «Живой церкви» и деятельности «контрреволюционной организации» «Общества приходов»; воззвание Патриарха от 15(28) февраля и письма митрополита в Помгол и Исполком: кто их составлял и кто распространял.
Таких обращений, как «Ваше Высокопреосвященство», «Высокопреподобие», «Преподобие», или просто «отец», для суда не существовало, а был «подсудимый имярек».
Так, в своих показаниях в заседаниях 12-13 июня «Подсудимый Казанский показал: Правление существует согласно устава. К выборам правления я отношения не имел. В Смольный об обучении Закона Божия не писал. Об этом не писалось ни в одном воззвании. Моих воззваний секретарь не рассылал. Заведывающим заграничными епархиями я теперь не состою. Ими заведует еп. Евлогий, которому я передал управление 2 года назад по распоряжению от Москвы от Патриарха Тихона. Где находится управление заграничных епархий – не знаю. Из Москвы по этому вопросу никаких сведений не получал. Насколько я знаю, в Петроградской епархии контр-революции не было. В церковных делах я не руководствовался тем, что написано в газетах – это для церкви необязательно. Воззвания пред напечатанием в газетах я прочитал настоятелям церквей. Письма в Помгол и Исполком через мою канцелярию не распространялись. Я до сих пор не осведомлен о структуре нашей церкви, как о ее политическом направлении – аполитичен. Введенского я отлучил от церкви за то, что три священника, никем не уполномоченные, не взявшие на это благословение, без воли своего митрополита поехали в Москву, и приняли там на себя высшее церковное управление и стали распоряжаться в моей епархии. Отлучать священников я могу на основании церковных канонических правил. Я предложил прот. Введенскому покаяться. Я за пожертвование церковных ценностей для голодающих. Для меня закон об «изъятии» обязателен. Закон Патриарха Тихона является для меня также обязательным. Воззвание Патриарха Тихона, в котором он говорил, что … мне известно, но противления в этом изъятию я не видел. Я для себя этого послания обязательным не считал, и по епархии его не рассылал. Оно мне не было прислано для обнародования, а для сведения; было ли с ним знакомо Правление Приходских Советов, я не знаю. Об этом воззвании я доклада в Правлении не делал… Три священника, в том числе прот. Введенский, были отлучены от Церкви за то, что без моего благословения приняли высшую церковную власть и стали распоряжаться, они не представили мне доклада о том, что они действовали по благословению Патриарха. Введенский нас об уходе Патриарха Тихона не известил, а также не сказал, что еп. Леонид является его заместителем. Вместе с Введенским должны быть отлучены и его прихожане. Пресвитеры, которые не покоряются епископу, составляют собрание самочинных – непокорных. Раз приход присоединился к непокорному епископу, я его отлучаю. В воззвании от 14 апреля я писал, что разрешаю своей властью жертвовать на голодающих ризы со святых икон, так как был уверен, что получу на это надлежащее благословение Патриарха. В марте же писал, что ризы можно снимать только с разрешения Патриарха. Мои представители в комиссии Помгол пунктов, которые им были даны, не отстояли. В моем обращении к пастве я приглашал верующих отнестись к изъятию священных сосудов спокойно, не препятствовать их брать власти, и об исходатайствовании на это благословения Патриарха я говорил представителям власти в Смольном, так как я знал мнение Патриарха Тихона от проф. Новицкого, который был в Москве и передал готовность Патриарха дать на это благословение. Новицкому я доверял, он передал мне разговор с Патриархом, и я его принял не как закон, а как уверенность, что получу разрешение… Правление вопроса о церковных ценностях не рассматривало. На заседаниях его я прочитал письма в Помгол и Исполком, никакого решения по этому поводу Правлением вынесено не было, я оглашал свои письма для ознакомления с ними. Послания Патриарха я в Правлении не оглашал».
На вопрос представителя общественного обвинения Драницына «обвиняемый Казанский показал: По канонам разрешается пожертвование церковных ценностей для голодающих, но я не знаю, чтобы в канонах разрешалось изъятие церковных ценностей для государства. Слово «святотатство» я понимаю как отобрание для корыстной цели и наживы. В канонах я разбираюсь при помощи пособий. Я не согласен с толкованием Патриарха Тихона об изъятии церковных ценностей. Я руководствовался не уставом духовной консистории, а канонами. За отлучение от Церкви священников Введенского, Красницкого, Белкова, я отвечу перед церковным судом. Вместилище святых мощей в пользу государства жертвовать нельзя. Против отдачи церковных ценностей на голодающих у меня возражений не было. Мои возражения сосредотачивались на форме отдачи…Я могу призвать к активности в области пожертвования, но в области изъятия – к пассивному повиновению – по существу результаты были аналогичны. Между мною и Патриархом Тихоном в этом мнении расхождений не было»[11].
В своих показаниях в заседаниях 13-14 июня «подсудимый Новицкий показал: Я состою председателем правления со времени его возникновения – с декабря 1920 года… Задачи правления были: разрешение богослужебных, пастырского характера вопросов – об оказании содействия общине в ее приходской жизни и других вопросов, возникавших в перспективе. По уставу правление имело право ходатайствовать пред властью по делам тех приходов, которые входят в состав правления. «Общество» имело право открывать Богословские курсы и устраивать уроки Закона Божия. Правление – общественная организация и в состав управления епархией совершенно не входит... В комиссию Помгола входили я и Егоров… Поездка в Москву состоялась в конце масляной недели – до появления первого письма митрополита, т.е. 6 марта. Перед отъездом я беседовал с митрополитом, надо было иметь документ, на основании которого можно было призвать церковь к участию в помощи голодающим. В Москве я видел Патриарха Тихона, мы беседовали недолго, я просил Патриарха дать воззвание, которого у нас не было, в котором бы говорилось о пожертвовании церковью церковных ценностей, а затем инструкцию Епархиальным Архиереям. Патриарх сказал, что разрешит жертвовать не только теми предметами, какие у него указаны в воззвании, но и священными сосудами… Правление ничего не сделало для противодействия изъятию церковных ценностей. Один из членов Правления, успокаивая толпу, чуть не был утоплен в Карповке. Я говорил всем и каждому, что церковные ценности, в т.ч. церковные сосуды можно отдать на нужды голодающих и выкуп пленных»[12].
В своих показаниях в заседании 15 июня «подсудимый Чуков показал: Совещание у Аксенова происходило 11 марта, созвано было митрополитом. Я получил приглашение от Новицкого, на собрании было человек 7-8… Второе письмо было результатом предварительного совещания у Аксенова, но текста условий этого письма у Аксенова мы не обсуждали. Для нас появление второго письма было неожиданностью в смысле формы обращения, на меня подавляющее впечатление произвела форма письма, последний пункт его производил тяжелое впечатление («Если бы слово мое о предоставлении Церкви права самостоятельной помощи голодающим на изъясненных в сем основаниях услышано не было и представители Власти в нарушение канонов Святой Церкви приступили бы без согласия ее Архипастыря к изъятию ее ценностей, то я вынужден буду обратиться к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждается, как кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне, по канонам Церкви, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужители извержением из сана» / 6-й пункт 2-го письма митрополита. – Л.А.). Первое письмо, попав в прессу, могло внести успокоение, но я думаю, что власть, призывая Церковь в участии в выполнении декрета, знала настроение массы и считалась с ним. Второе письмо, я ни в каком случае не оглашал, как не оглашал и у себя в соборе. С условиями, предложенными митрополитом, я не совсем согласен, я бы иначе написал письмо… По приезде Новицкого из Москвы, на заседании Правления 6 марта, перед приходом митрополита, он передал собравшимся взгляд Патриарха Тихона на общее положение относительно приходского устава, по поводу изъятия ценностей он сказал, что Патриарх Тихон разрешит изъятие больше, чем то указано в его воззвании, если митрополит будет о том ходатайствовать. Я повесил первое обращение митрополита у себя в соборе с целью подготовки верующих и богомольцев к необходимости отдать ценности голодающим. К тому же я знал, что масса стояла на точке зрения отрицательной… Относительно раскола церкви мне известно, я знаю, что существует прогрессивная группа духовенства, но принципы ее работы мне не известны, их тезисов я не знаю, журнала «Живая Церковь» не читал. Персонально я знаю Введенского и Боярского и их некоторые взгляды. Своим прихожанам содержание декрета и инструкции об изъятии ценностей я не оглашал, т.к. это не входило в круг моих обязанностей. Первое письмо митрополита было написано 5 марта, волнения у собора были 15-го, во время волнений я был в соборе и успокаивал 5-ти тысячную толпу, сказав, что если верующие отдадут свои ценности, то церковные ценности будут сохранены… Я повесил первое обращение митрополита у себя в соборе».
На вопрос общественного обвинителя Смирнова «подсудимый Чуков показал: Я товарищ председателя правления с января 1922 года, членом правления был с его основания. В 6 пункте 2-го письма митрополита. …я видел угрозу и пришел к заключению, что это может привести к нехорошим последствиям, но при оглашении письма. Я не возражал, так как митрополит по поводу этого письма с нами не советовался, а оглашал для сведения. Второе письмо я сознательно не хотел распространять. Я подготавливал массу в течение полутора месяцев: во-первых, я вывесил первое письмо митрополита, затем 15 марта я указал практический выход из положения: заменить соборные ценности соответствующим количеством ценностей прихожан. Периодически я вывешивал сведения о количестве пожертвованных прихожанами ценностей, количество указывало на то, что сбор идет плохо и что придется отдать ценности, таким образом, сознание в массе постепенно преломлялось, и при сдаче ценностей в соборе никаких недоразумений не было. Очевидно, дело изъятия ценностей из церквей было не так просто, если власть пригласила митрополита влиять на верующих. Я лично категорически стою на точке зрения изъятия ценностей и проведения в жизнь декрета… Первое письмо митрополита я брал в целом, в том, что голодающим можно отдать все, до священных сосудов включительно, последний пункт не имел решительно никакого значения ни для меня, ни для прихожан…С точки зрения церковной дисциплины я подчинен митрополиту. Первое письмо я вывесил в храме по своей инициативе, второго не вывешивал также по своей воле. Из моего собора было изъято 125 пудов серебра. Никаких шероховатостей при изъятии не происходило, я старался скрыть день изъятия от прихожан. Изъятие длилось с 4 по 18 мая. 15 марта у собора было скопление народа, т.к. происходило торжественное богослужение»[13].
После 10 июня 1922 года можно было уже говорить не только о расколе в Церкви, но и о «расколе в расколе», т.к. в результате ранения в голову главного свидетеля обвинения прот. Введенского, он в первый же день суда «выбыл из строя», и среди раскольничающего «прогрессивного духовенства» верх взял прот. Красницкий, лидер «Живой церкви», как чуть позже она будет названа по названию издаваемого этой группой журнала.
В деле 1287 имеется обращение прот. Введенского в Ревтрибунал: «Прошу предоставить мне возможность выступить на процессе церковников с защитительной речью. Я собираюсь вскрыть и подчеркнуть все язвы церковности, все запугивания, но вместе с тем и просить пощады этим личностям, как таковым». Но «триумфатор» лечил свою голову, и с «защитительной речью» выступить не смог[14].
А прот. Красницкий, уже ставший заместителем председателя ВЦУ еп. Антонина Грановского, 24 июня скорым поездом прибыл из Москвы в Петроград.
«Он неожиданно вырос из-под земли, как «призрак беспощадный», перед оробевшим епископом» Алексием и, как далее пишет Левитин, вручил ему следующий документ:
«Преосвященному Алексию, управляющему Петроградской епархией.
Прибыв в Петроград, согласно мандату ВЦУ от июня 10/23 дня с.г. №310 – для ознакомления с положением Петроградского епархиального управления – ввиду того, что означенное управление до сих пор еще не вступило в отправление своих обязанностей под председательством Вашего преосвященства, – предлагаю Вам именем Высшего Церковного Управления Православно-Российской Церкви, – немедленно вступить в обязанности председателя Епархиального управления, без чего не может быть осуществлено вами управление Петроградской епархии. Петроградское Епархиальное управление должно действовать строго по указаниям Высшего Церковного Управления.
Заместитель председателя ВЦУ протоиерей Красницкий. 24 июня 1922 г.» (Живая Церковь, №4-5, с.9.)
Дав прочесть этот «ультиматум» епископу Алексию, Красницкий (по всем правилам бюрократизма) заставил его сделать на копии следующую подпись: «Настоящая копия с подлинным верна. Епископ Алексий. Печать». Вслед за тем Красницкий нагло потребовал немедленного ответа, не давая даже одного дня на размышление; выбора не было: епископ Алексий должен был стать Петроградским Леонидом (марионеточным главой Петроградского ВЦУ) или уйти. К его чести надо сказать, что он не колебался. Тут же епископ Алексий составил следующее заявление:
«В Высшее Церковное Управление.
Ввиду настоящих условий признаю для себя невозможным дальнейшее управление Петроградской епархией, каковые обязанности с сего числа с себя слагаю. Алексий, епископ Ямбургский. 24/11 июня 1922 г. Место печати».
Этого только и надо было Красницкому – поле для действий было открыто. С «отречением» епископа в кармане, он сразу бросился к «своим». «Свои», однако, приняли его очень холодно и не пришли в восторг от его «достижений». В это время руководящее положение среди питерских обновленцев занимал А.И. Боярский, планировавший, как и Антонин, «вторую церковную революцию». А.И. Введенский, подпавший по своей бесхарактерности под его влияние, его поддерживал – оба они отказались вступить в епархиальный Совет. Остальные протоиереи, с которыми пытался вступить в переговоры Красницкий, вообще отказались с ним говорить. Здесь дело обстояло труднее, чем в провинции: публика была здесь дошлая, и запугивания не оказывали особого действия, да и в Смольном уж очень иронически посматривали на московского гостя»[15].
Известно, что авторы Левитин и Шавров симпатизировали прот. Введенскому, чего нельзя сказать о прот.Н.Чукове. Однако он считал, что еп. Алексий совершил ошибку, сложив с себя управление епархией в тех условиях, когда пошел раскол уже среди раскольничающих, и «что если не потушить огонь в начале, то он разрастется в пожар, что упущенный в начале, раздор действительно может потом разрастись в раскол, углубиться и отколоть часть верующих» – что на самом деле и произошло в тогдашней действительности.
Публикуемый ниже дневник прот. Николая расскажет о хронологии событий Петроградского процесса, в том числе о выступлении Красницкого 27 июня на суде в качестве свидетеля.
Приговор Петроградского Губернского Ревтрибунала от 10 июня – 5 июля 1922 г. был вынесен поздно вечером 5 июля:
«Заслушав и рассмотрев дело № 1287 по обвинению 1.Казанского Василия Павловича... 5. Чукова Николая Кирилловича... (всего 83 фамилии. – Л.А.) /Правление Общества Приходских Советов/ в контрреволюционных целях, агитации против изъятия церковных ценностей, противодействии и сопротивлении изъятию и хищению таковых, в преступлениях, предусмотренных ст.62, 69, 72, 73, 77, 86, 119,150, 180 и 185 УК РСФСР. Рассмотрев в судебном заседании материалы предварительного следствия, объяснения представителей обвинения и защиты, показания свидетелей и самих обвиняемых, трибунал постановил: Казанский, он же митрополит Петроградский и Гдовский, совместно с Правлением Приходов православной русской церкви, в лице ее активной группы: Председателя Правления: Новицкого, членов: Ковшарова, Елачич, Чукова, Богоявленского, Огнева, Шеина, Плотникова, Чельцова, Бычкова и Петровского, в контакте директив, исходивших от Патриарха Тихона, явно контрреволюционного содержания, направленных против существования рабоче-крестьянской власти, поставили себе целью, как проведение этих директив, так и распространение идей, направленных против проведения Советской Властью декрета от 23-го февраля сего года об изъятии церковных ценностей, с целью вызвать народные волнения для осуществления единого фронта с международной буржуазией против Советской Власти... После издания рабоче-крестьянской властью постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г. об изъятии церковных ценностей Патриарх Тихон, Митрополит Петроградский Вениамин и другие князья церкви, следуя директивам, идущим от международной буржуазии, вступили на путь борьбы с Советской властью. Фальсифицируя канонические правила церкви, использовали религиозные предрассудки масс и пропагандировали идею сопротивления Советской Власти в проведении постановления ВЦИК’а... Действуя с благословения Патриарха Тихона, поддерживая его преступную деятельность, митр. Петроградский Вениамин, совместно с Правлением Приходов ПРЦ вырабатывали послания в комиссию Помгола и Исполком, каковые распространяли среди приходов, а последними и духовенством приходов – среди прихожан. Так 15 марта у Казанского собора скопляется толпа в несколько сот человек, распропагандированная к противодействию изъятия церковных ценностей, раздавались призывы к избиению комиссии и т.д... Новицкий… состоял Председателем Правления... придал организации характер деятельности, поставившей своей целью борьбу с Советской Властью. Участвовал в закрытом совещании на частной квартире 11 марта, где вырабатывался текст обращения в Исполком, впоследствии представленный властям как ультиматум... Чукова, Плотникова, Елачич, Огнева, Шеина, Петровского и Бычкова в том, что, составляя вместе с вышеуказанными лицами (Казанским, Новицким, Ковшаровым, Богоявленским и Чельцовым) активную группу, действовавшую под видом легальной организации Правления Приходов православной русской церкви, принимали активное участие в совещаниях и собрания означенной группы, в коих обсуждали и разрабатывали вопросы противодействия Советской Власти в проведении ею декрета об изъятии церковных ценностей с целью возбуждения народных масс, т.е., Казанский, Новицкий, Ковшаров... Чуков, Петровский обвиняются в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 62 и 119 УК. 6 июля 1922 г.»[16]
Каким-то образом попали в члены правления «Общества» еп. Венедикт и прот. Михаил Чельцов, хотя в нем не состояли, о чем ясно заявляли в своих показаниях на суде[17].
Таким образом, для десяти подсудимых приговор полностью совпал с обвинением: высшая мера наказания с конфискацией имущества. Никто из подсудимых вины за собой не признал.
Параллельно ВЦУ «Живой Церкви» сняло со всех духовных саны, а с митрополита и еп. Венедикта – и монашество.
Защита организовала подачу кассации в Кассационный Трибунал и немедленно выехала в Москву.
В течение всего процесса прот.Николай сидел в одиночной камере, а после вынесения смертного приговора, с 5 июля, они захотели поместиться вместе Юрием Петровичем Новицким, с которым они были ближайшими соратниками и друзьями, но уже 7 числа узников развели по одиночным камерам: «Ну, дай Бог встретиться при более благоприятных обстоятельствах», – сказал Юрий Петрович, – и мы расстались...».
 Молодой профессор, юрист, автор монографии
«История русского уголовного права», интеллектуал из старинного дворянского рода,
«Новицкий очень близко принимает к сердцу интересы церковной жизни, а боевые из
них сосредотачиваются сейчас около Богословского института и Общеприходского
совещания», – писал отец Николай. Уничтоженное в мае 1922 года «Общество
приходов» было пульсом церковной жизни Петрограда, а незаменимым председателем его
правления был Юрий Петрович.
Молодой профессор, юрист, автор монографии
«История русского уголовного права», интеллектуал из старинного дворянского рода,
«Новицкий очень близко принимает к сердцу интересы церковной жизни, а боевые из
них сосредотачиваются сейчас около Богословского института и Общеприходского
совещания», – писал отец Николай. Уничтоженное в мае 1922 года «Общество
приходов» было пульсом церковной жизни Петрограда, а незаменимым председателем его
правления был Юрий Петрович.
В 1921 году у Ю.П. Новицкого скончалась жена, и на воле сиротствовала дочь Оксана. О чем думали в камере смертника отец Николай и Юрий Петрович? Конечно, о детях. У внука нмч. Юрия Петровича Новицкого, Юрия Ивановича Колосова, сохранилась его последняя записка: «Дорогая мама. Прими известие с твердостью. Я знаю давно приговор. Что делать? Целую тебя горячо и крепко. Мужайся. Помни об Оксане. Целую крепко. Юрий…». Вырастила Оксану Георгиевну и заменила ей мать Ксения Леонидовна Брянчанинова[18].
Опытный юрист, видя, что вины за осужденными никакой нет, но доказывать что-либо на этом судилище совершенно бесполезно, и все предрешено, в последнем слове Ю.П. Новицкий предложил себя в жертву, если она нужна, чтобы не гибли другие.
В архиве митрополита Григория имеется только один рисунок, и сделан он в камере смертника в ночь с 12 на 13 июля 1922 года, когда приговоренные к расстрелу слышали, как четверых выводили из камер…
Когда о. Николай освободился из тюрьмы и получил место Настоятеля Никольского морского собора, он смог помогать сироте материально, а молился – всегда. Ныне все новомученики и исповедники Петроградские уже «встретились при более благоприятных обстоятельствах» – на небесах.
8 июля к форточке одиночной камеры о. Николая неожиданно потихоньку подбежал один из надзирателей и сообщил по секрету, что приговор остановлен, а 20 июля снова какая-то «добрая душа» прошептала в окошко камеры о. Николая, что «6 человек помиловали, а о 4-х еще неизвестно».
В результате кассации защиты в Кассационный трибунал, ходатайств родственников и общественности, постановлением Президиума ВЦИК от 3 августа 1922 г. расстрел был заменен заключением, но, как оказалось, не всем: «В отношении осужденных Казанского, Новицкого, Шеина, Ковшарова приговор Петроградского Революционного Трибунала оставит в силе. В отношении осужденных Плотникова, Огнева, Елачича, Чельцова, Чукова и Богоявленского – заменить высшую меру наказания пятью годами лишения свободы. Секретарь ВЦИК А.Енукидзе. 8 августа 1922 г.»
Помилованным заключенным постановление ВЦИК от 3 августа оглашали только в части, их касающейся, и сначала до них дошли сведения от родственников, что вроде бы четверых отправили в Москву, а потом уже самые разные слухи, и долго еще теплилась надежда, что владыка Вениамин, архимандрит Сергий, Юрия Петрович Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров живы.
В апреле следующего года прот.Николай запишет в дневнике: «1/14 апреля 1923 г. …А.А.Жижиленко рассказывал про процесс, что в деле вставлен последний лист с пометкой “приговор приведен в исполнение”; что к расстрелу предполагался и о. Л.Богоявленский, как автор писем, но ходатайство Щеголева (издателя и редактора “Былого”) перед Зиновьевым спасло его от сопричисления к четырем. Говорил он также, что архим. Сергий подвергся печальной участи потому, что его считали правой рукой Патриарха и знали, что в скором времени его ожидала Крутицкая митрополия и управление Московской епархией; что Ковшаров погиб за то, что его подозревали в юрисконсульстве у митрополита так же, как он был таковым по лавре».
Вместо расстрелянного архимандрита Сергия, 6 мая 1923 года во епископа Крутицкого, обновленческого викария Московской епархии, был хиротонисан состоявший в браке прот. Введенский. Как говорится, что и требовалось доказать.
Бывшие «смертники» – еп. Венедикт, протоиереи М.Чельцов, Л.Богоявленский, Н.Чуков, миряне Д.Огнев и Н.Елачич – отбывали срок в бывшей пересыльной тюрьме, 2-ом т.н. Исправдоме, Доме исправления преступников на Константиноградской ул., д.6 в Петрограде.
Как пишет в дневниках прот.Н.Чуков, и «арест уже был предрешен, только мы не знали», и количество помилованных очевидно тоже было предрешено – шесть человек, как на Московском процессе.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года претерпел некоторые изменения в 1926-м и последующих годах, однако шесть статей Главы ΙV Особой части кодекса 1927 года, с тем же названием «Нарушение правил об отделении церкви от государства», оставались практически без изменений до введения кодекса 1961 года. Тогда же понятие «контрреволюционные» государственные преступления были заменены на «измену Родине».
Как видно из данной публикации, в ходе первого процесса, с использованием первого УКРСФСР, «право» было попрано полностью, и не только в переносном, но и в самом прямом смысле. Расстреляны были архипастырь и три юриста, из них один пастырь-юрист. Приговор носил не правовой, а политический характер. А в дальнейшем многие уцелевшие тогда имели дело с «ОСО» и «тройками». Трудно сказать, как это сочеталось с тщательно разработанными уголовными кодексами РСФСР, предполагавшими решение дел в суде, хотя уже первый процесс 1922 года показал, как расстреливают право.
Митр. Григорий (прот.Н.К.Чуков). Дневник в тюрьме с 31 мая 1922 года
 18/31
мая 1922 г.
Вторник. 3 часа.
18/31
мая 1922 г.
Вторник. 3 часа.
Допрос с 8 с четвертью до 11 часов у следователей (неразб. – Л.А.) и Нестерова… о выпадах у собора, о президиуме, о первом письме, о собрании 15 марта. Грубоват, но сносен. Уставший Нестеров – хитрый и двуличный. Спрашивал о вывешивании письма, о протоколах, о неофициальном собрании (у Аксенова), об архим. Сергии Шеине, собрании 20 апреля и что говорил Акимов. Часто оба уходили, и, оказалось, что распоряжались в это время у меня обыском и засадой, вероятно, для Сопетова (староста Казанского собора. – Л.А.), о месте пребывания которого спрашивали оба. Мерой пресечения предъявлен арест в III-м Исправительном доме, камера - одиночная.
Туда же направлены были Союзов и Бычков. Ждали наших до 2 часов. Пришлось отдать ценные вещи сторожу… Взяли наши поручения и записки к семьям… Пошли по дождю…
Пришли. Конвоиры славные. Встреча тоже ободряющая: бумагу о нашем аресте от души хлопнул на стол принимавший.
Поместили на ночь в общей камере (96). Кое-как, трое на одной койке, без матраца прикорнули. Рано-рано поднялись. Тоскливо. Стали заходить дежурные, надзиратели, отделенные, и все старались проявить как можно больше внимания, все деликатные. Пока ни одного слова грубого. Добрые люди.
После обеда нас развели по отдельным камерам. У меня №... (испорч.текст. – Л.А.) Лучше одному, выспался, можно сосредоточиться, обдумать – что нужно. Сообразил, что и как говорить на суде. Приходил отделенный. Сказал, что привезли поодиночке в автомобилях с Гороховой, в строгое заключение. Ожидается всего будто бы 49 человек духовенства. Хорошо работают прогрессисты духовные! Говорят, Введенский сам приезжал с солдатами арестовать митрополита!
Днем прислали одежду и прочее, и сообщили, что вчера вечером был обыск и засада, что все благополучно, однако, что будто бы ничего не взяли.
Сейчас пил вечерний чай с ужином. Пишу, поуспокоившись.
Вечер первого дня. 8 часов.
Последний обход и все начинает успокаиваться. Спокойствие и на душе. Вчера ночью и утром, под влиянием бессонной ночи и впечатлений от предъявленного обвинения в организации противодействия изъятию церковных ценностей – слишком большое обвинение и очень опасное в связи с событиями дня – чувствовалось большое беспокойство, и мрачные мысли приходили в голову: расстрел и мысли о семье, принудительные работы и т.п. Сейчас, когда поуспокоился, обдумал обвинение, спроектировал даже защитную речь – на душе лучше. О расстреле также продолжаю думать – воля Божия!
Жаль только семьи, не ставшей на ноги, жаль жены, не привыкшей жить с детьми в ином – зависимом положении, жаль Веруси, еще совершенно не поднятой на ноги. Господь их не оставит. Направление детей хорошее; Царица Небесная да хранит их! А я, если это Господу угодно, могу идти к Нему. Жизнь прожита не без пользы. Дай, Бог, детям поработать в жизни для общества так же, как работал их отец.
Сохранились ли мои дневники от обыска и проповеди? Хотелось бы, чтобы дневники послужили впоследствии историческим материалом, как и многие собрания писем, хранящихся у меня (своих и чужих). Сегодня не гуляли: дождь.
19 мая/1 июня 1922 г. Четверг.
Второй день пребывания в тюрьме. Целый день был в томительном ожидании свидания, которое здесь бывает по четвергам, которое обещал Нестеров, о котором я писал домой, и которое, однако, почему-то не состоялось. Жаль, хотел жене сообщить многое и дать указания, которых поэтому не написал в записке. Напишу в субботу. Главным образом, о защите.
Сегодня ночью или вчера вечером привезли к нам еще 6 человек, а сегодня еще 6, всего будто бы 12 человек. Есть Дернов; слышал, как вызывали ночью Пищулина. По словам служащего, автомобили по городу все возят батюшек... Все это, по словам о. Союзова (со слов на свидании), чтобы не читали в церквах послания о Введенском, и, будто бы Нестеров говорил, чтобы посаженные “не пороли горячки”, что их изолировали для этой цели. Возможно, только меня-то, вероятно, и еще и за Правление. Хотя все-таки странно - почему не раньше.
По слухам (тоже со “свидания” Союзова), митрополит низложен, управляет епархией Алексий; Боярский официально примкнул к группе Введенского (вероятно, привезена из Москвы копия резолюции Патриарха). Так дожили до переворота и в Церкви. Как-то все это ею переживется. Беда, если реформаторы перейдут меру и зарвутся. Отпадение от Церкви, постепенное охлаждение к вере – вот к чему может это привести. Атеистической власти, по-видимому, этого и нужно. А наши ей помогают. Ужели сознательно? Хочется думать, что прельщены иными целями – помимо честолюбия – даже своеобразно понимаемым “благом” Церкви.
20 мая/2 июня 1922 г. Пятница. 10 часов утра.
Ночь прошла как-то неспокойно. Грезились покойники: Преосв. Павел (еп. Олонецкий и Петрозаводский Доброхотов, духовный наставник о. Николая. – Л.А.) и еще кто-то. Утром надзирательница сообщила, что привезли о. архим. Сергия Шеина и профессора Карабинова. Опять его бедного! Это, очевидно, за резкие отзывы о докладе Введенского. Позже узнал, что привезли еще профессора Бенешевича. И с ним, и с архим. Сергием – недоразумение: взяли вместо Шеина – архим. Сергия из Лавры, и вместо Влад. Никол. Бенешевича – его брата, но недоразумение выяснилось, и тех освободили.
Погода хорошая, но, говорят, холодная, и потому гулять не выпускали. Сижу один. Изредка по тепловой трубе перекинемся сведениями с о. М.Союзовым. Предлагали сесть вдвоем с каким-то интеллигентом, но я предпочитаю быть один: не люблю говорить о пустяках, придумывать предметы разговора, когда хочется быть одному, сосредоточиться, вообще принадлежать только себе. И всегда раньше, и теперь особенно я тягощусь лишним обществом. Человек дела, я не привык проводить время в болтовне и, высказав, что нужно, уже тягощусь собеседником. Много содержания и внутри, и лучше всякого собеседника (обычного) хорошая книга.
Написал жене письмо с наказами ей и детям на случай смертного приговора: хотя и не верится, и нет никаких оснований, но в нынешнее время возможно все... Сегодняшняя надзирательница Васса Петровна – очень внимательна. Хотя и все они вообще очень, очень добры.
21 мая/3 июня 1922 г. Суббота. Утро.
Сейчас встали. Уборщик подмел у меня комнату. День рождения Анечки. Господь да сохранит ее! Написал вчера письмо домой, сегодня пошлю с обратной передачей. Поплачут, потому что пишу наставления на случай возможного расстрела. А это возможно.
Вчера вечером прочел номер “Правды” от 2 июня и там одна сплошная ложь: мы выпускали воззвания, организовали на местах ячейки для противодействия властям, влияли на митрополита! При такой безцеремонной лжи вполне возможна подтасовка и осуждение до самых крайних мер. Хочу написать жене, чтобы побывала у Введенского и выяснила ему всю ложность обвинения. Указал как мотивы:
1) Никаких воззваний Правление не делало;
2) Никакой связи с приходами не устраивало;
3) Никаких организованных ячеек на местах не было: являлись какие-то добровольцы, может быть, провокаторы и подбивали толпу, как на Сенной;
4) В частности мне вменяются выпады каких-то лиц у Казанского собора, в то время как я из сил выбивался сдерживать толпу в соборе;
5) Лично я всемерно старался провести спокойно изъятие, и провел; свидетели – комиссия Второго городского района и приходской совет;
6) Всю вторую половину марта я был в постели от упадка сил из-за этого изъятия.
Прошу ее поговорить с Преосв. Алексием, чтобы тот побеседовал с Введенским.
Суббота, вечер, около 8 часов.
При передаче получил письмо от Л.Д. Аксенова (юрист, близкий знакомый Св. Патриарха, арендатор б. епархиального свечного завода, член правления «Общества приходов». – Л.А.). Сообщает, что Политический Красный Крест берет защиту; состав ее: Кони, Новорусский, Гартман, Гурович и от нас – Гиринский. Сам не отказывается, если можно и надо… Леонид Дмитриевич пишет, что с ночи на вчера митрополит, Преосв. Николай и Иннокентий разделяют нашу участь (на Гороховой). Преосв. Алексий снял отлучение с Введенского, дабы облегчить положение заключенных. В частности ему будто бы обещано мое освобождение. Боюсь надеяться.
Жена пишет, что у нас многие бывают, выражают сочувствие, Институт заботится о продовольствии; Нина (Н.А. Никитина – студентка Бог. ин-та. – Л.А.) хлопочет. Спасибо им всем. Веруся перешла в следующий класс и хорошо. Слава Богу! Теперь уже во второй ступени. Надо читать больше историю и литературу.
Мой сосед – о. М.Союзов сегодня именинник и прислал мне пирог и конфет... Передача сегодня огромная. Матушка Афанасия прислала еще 2 бутылки молока, 1/2 фунта масла и 4 просфоры. Делюсь со служащими и заключенными.
Читал по молитвослову вечернюю службу и праздничную, потом псалмы, особенно применяемые в настоящем положении – 22, 41, 90, 26.
Все в церквах, а мы воздыхаем одни. Но духом все в Господе...
22 мая/4 июня 1922 г. Воскресенье. День Св. Троицы. Около 7 часов вечера.
Сегодня день содержательный. Утром после чая прочитал по молитвослову всю литургию. Обдумывал защитную речь. Около 12 часов, когда готовился на прогулку, вызвали на свидание. Пришли Анечка с Ниной Никитиной. Сначала не допускали, но, узнав, что к “священнику”, дали, и не через решетку, а в отдельной комнате. Оказывается, они о свидании еще и не просили. А я думал, что им не дали, и на этом строил ухудшение моего понимания сравнительно с другими. Аня подробно рассказала, что делалось за эти дни.
Вернувшись из трибунала за вещами для меня, она застала трех субъектов, ожидающих меня с Гороховой. На заявление ее, что я уже арестован, они удивились, оставив красноармейца на кухне “в засаде”. Обыска никакого не делали, хотя ордер на это был, и они отметили, что делали. Как объяснил после Бакаев, арест предполагался с Гороховой (вне зависимости от Трибунала), в связи с хоругвями. Засада утром была снята.
Днем Аня с Ниной были у Введенского, который принял их очень любезно, успокаивал, что ничто серьезное мне не угрожает, что если приговорят к принудительным работам, то прогрессивная группа возьмет меня на поруки. Оказывается, Преосв. Алексий уже говорил с Введенским о моем освобождении, указав на то, что он одинок, без советников, и что я своим тактом мог бы объединить обе стороны, и старую и прогрессивную...
Боря в это время был у Преосв. Алексия, который сообщил то же и ему, прибавив, что у него было собрание с участием Введенского, Боярского, Бакаева и что он на нем говорил о необходимости моего освобождения, и Введенский и Боярский говорили то же, а Бакаев записал это.
Вечером Аня (энергичная девочка, вся в отца...) была у Бакаева, беседовала с ним обо мне и о моем освобождении. Указала на безболезненность процесса изъятия в Казанском соборе и получила в ответ: “Да, я об этом прот. Чукове ничего худого сказать не могу”. И то, слава Богу! Сообщил, кстати, что арест на дому был из Гороховой в связи с делом о хоругвях, что часть дела об якобы снятии их и новом водружении он прекратил, а осталась другая - что хоругви три дня еще стояли. (Вина тут не моя: я несколько раз просил Ильина и Васенко прислать иконы из района, чтобы поставить на места). “Это, впрочем, не серьезное дело, - сказал Бакаев, - а важнее его участие в правлении Общества приходов”. (Ну, тут-то уж я совсем ни при чем). Во всяком случае, по-видимому, принял к сведению ходатайство Ани.
В субботу являлся к нам какой-то тип, очевидно, с Гороховой, спрашивал Сопетова, причем с видом, как будто знает, что он тут живет. Ищут все его, а он – у себя скрывается.
Жена была у Преосв. Алексия, ежедневно бывает у Аксенова. Надоедят ему от меня. Сегодня он пишет мне, что получил новый уголовный кодекс, весьма благоприятный для нашей защиты и кассации. Указал мне даже параграфы, на которые необходимо обратить внимание.
Мое письмо вчерашнее, конечно, доставило слезы, и за него упрекает меня и Леонид Дмитриевич и Аня. Но что ж? Я не люблю скрывать ничего, надо быть готовым ко всему в революционное время, поэтому надо уметь говорить предусмотрительно и о смерти.
Здесь на прогулке увидел – Л.Парийского, И.М.Ковшарова, архимандрита Сергия, о. П.Левицкого. Дернова не видал. Пищулин и Бенешевич выпущены. Говорят, арестован в Лавре и о. Гурий. Преосв. Иннокентий будто бы не благословил о. Введенского на собрании архиереев в лавре, и теперь сидит за якобы какое-то восстание в Ладожском уезде, и, по словам Введенского, ему грозит самая тяжелая участь, может быть расстрел. Вот это нехорошо; тут непременно нужно не допустить этого в силу именно личного столкновения. А о. Рождественский (ключарь Казанского собора. – Л.А.), оказывается, несмотря на мой арест, изволил от такого праздника уехать куда-то в гости, и в соборе беспорядки: сегодня Преосв. Алексий пришел к литургии; конечно, его никто не вышел встречать, но даже и ковры не постланы... Итак, пятый день заканчиваю в тюрьме. В одиночной камере сидеть предпочитаю: никто не мешает, не стесняет, полный хозяин самого себя. Если бы не неизвестность участи, то это отличное уединение для размышления, для отдыха, даже для занятий. Словом – “дом отдыха”. Особенно, при том добром, благожелательном от всех отношении, какое проявляется к нам всем духовным. Обычно здесь сидят налетчики, воры, и люди интеллигентные, особенно духовные, являются для служащих тем светлым пятном на мрачном фоне тюремной жизни, на котором, очевидно, успокаивается их глаз. И за это, слава Богу!
Камера моя – 2 сажени в длину, 1 – в ширину, и около 2 с половиной сажень в высоту. Окно выходит на линию (испорч. текст. – Л.А.). Солнце светит в первую половину дня, значит, окно выходит на юго-восток. Табуретки нет, и я устроил сиденье под окном у стены на проходящей у стены пароводяной трубе, уложив на острых ребрах клеенку. Тут поставил стол, и так, со светом сзади, с лицом, обращенным прямо к двери, сижу. Тут и насыщаюсь, тут и пишу. Стол покрыт вместо скатерти чистой длинной тряпкой: получается вид вполне приличный и опрятный. В углу полочка с продуктами; внизу под ней корзинка с ними же. Надо только избавиться от лишней рясы, чтобы быть совсем налегке в случае перехода в Трибунал или куда-нибудь в иное место.
23 мая/5 июня 1922 г. Понедельник. Духов день.
С утра опять по молитвослову прочел службу. В 12-м часу позвали гулять. Отец Сергий, Ковшаров и Парийский гуляли раньше. Парийский устроился и с нами. Дернова не видно. Левицкого сегодня тоже нет. Вероятно, их выпустили.
Парийский (секретарь митрополита. – Л.А.), по молодости, горячности темперамента и избалованный близостью к митрополиту, непримиримым тоном возмущался тем, что епископ Алексий снял отлучение с Введенского и вступил в управление епархией. По нему, митрополит не считает себя уволенным, потому что все временное высшее управление будто бы незаконно. Из Москвы будто бы во вторник привезена копия патриаршей резолюции, которая говорит только о поручении трем лицам (священникам) передать при посредстве Нумерова (секретарь Патриарха. – Л.А.) дела митрополиту Агафангелу. И только. На этом основании митрополит отказался признать законность его увольнения.
Собрание викарных епископов тоже высказалось за недостаточность полномочий у Временного Высшего Управления.
Тут возникает целый ряд недоумений:
1) Какая же редакция патриаршей резолюции подлинная:
а) переданная Парийским (где, не упомянут даже епископ Леонид),
б) сообщенная мне Введенским (где говорится о Леониде и о кооптации) или
в) сообщенная мне Боярским (из 4-х епископов, нескольких священников и 3 мирян)?
2) Если подлинна редакция Парийского, то могла ли группа с Преосв. Леонидом вступить в Управление из-за невозможности прибыть митрополиту Агафангелу? И если не канонически, то “по нужде”?
3) Если могла вступить “по нужде”, то, как смотреть на увольнение ею митрополита? Законно ли?
4) Если увольнение незаконно, то вступление епископа Алексия в управление может рассматриваться как временное, особенно под давлением квалифицирования отказа Балаевым, как шага контрреволюционного. Но тогда – как смотреть на снятие им отлучения с Введенского? Как это указывается правилами и практикой? Мог ли он снять, если уверился, что наложение было вызвано недоразумением (не было документа от Патриарха). А если не так (если подлинна все-таки редакция Парийского), то мог ли (по практике древней) Преосв. Алексий снять отлучение и вообще ради спокойствия Церкви?
Необходимо выяснение всех этих вопросов, чтобы ориентироваться в создавшемся запутанном положении. И я очень не завидую Преосв. Алексию, что он на свободе в это крайне ответственное время. Осуждения кругом много, а помочь некому. И наши отцы здесь только осуждают, а как выйти из положения – не говорят, потому, что не знают.
24 мая/6 июня 1922 г. Вторник. Около 7 часов вечера.
Вот уже ровно неделя, как мы в тюрьме. Неделю назад в эти часы я уже был в Трибунале и ждал допроса. Арест уже был предрешен, только мы не знали. А меня даже одновременно с двух мест: в Трибунале и с Гороховой.
Сегодня погода очень теплая, гуляли около часу (с двумя партиями); оба раза я гулял с Ковшаровым. Беседовал о деле. Говорит, что лучше не иметь личных защитников: сами расскажем все просто, и это произведет лучшее впечатление. Если защита общая, пусть осветит все дело с точек зрения - канонической, юридической и политической. Говорят, что обвинительный акт заключается в 500 страницах... Надо ознакомиться, чтобы спроектировать свою защитительную речь.
Сегодня прочитал послание епископа Алексия. Указывает на новые факты, вследствие которых подверг дело о Введенском пересмотру, и снял отлучение. Тем не менее, по сообщению жены, вчера в Богословском институте было собрание духовенства Петрограда, на котором была вынесена резолюция:
1). Признать законность преемства епископа Алексия.
2). Поручить ему выяснить у Патриарха – полномочия Временного Высшего управления.
3). Поручить ему получить от митрополита письменное выражение его взгляда на снятие Алексием отлучения.
4). Заявить лояльность и аполитичность духовенства, и его непричастность к Карловацкому Собору.
5). Ходатайствовать пред Советской властью о взятии на поруки митрополита и арестованного духовенства.
Как видно из резолюции, все-таки вопрос и после послания епископа Алексия взволновал. Да и конечно, все дело в документе от Патриарха. И я удивляюсь, что до сих пор Высшее Управление не могло достать его...
Около 5 часов был в ванне. Давно не мылся, с удовольствием воспользовался возможностью; кстати, принесли белье.
Сегодня опять передача от игуменьи Афанасии, а в домашней - от о. Макария (Звездов. – Л.А.), Елены Филимоновны (Тураевой. – Л.А.) и других. Спасибо им всем.
Сбор на Богословский институт в соборе дал всего 15 миллионов. Это очень мало – на Стремянной собрали 40 миллионов. Очевидно, никто ничего не сказал: Рождественскому дела мало, Либин обещал, но не исполнил; а мысль у всех была занята другими событиями.
25 мая/7 июня 1922 г. Среда. 10 часов вечера.
Вот уже восьмой день сидим в тюрьме и, Бог весть, чем все кончится. Утром гуляли, нового ничего. Только Бычков характеризовал Введенского, как больного человека, лжеца, неумного и т.п.
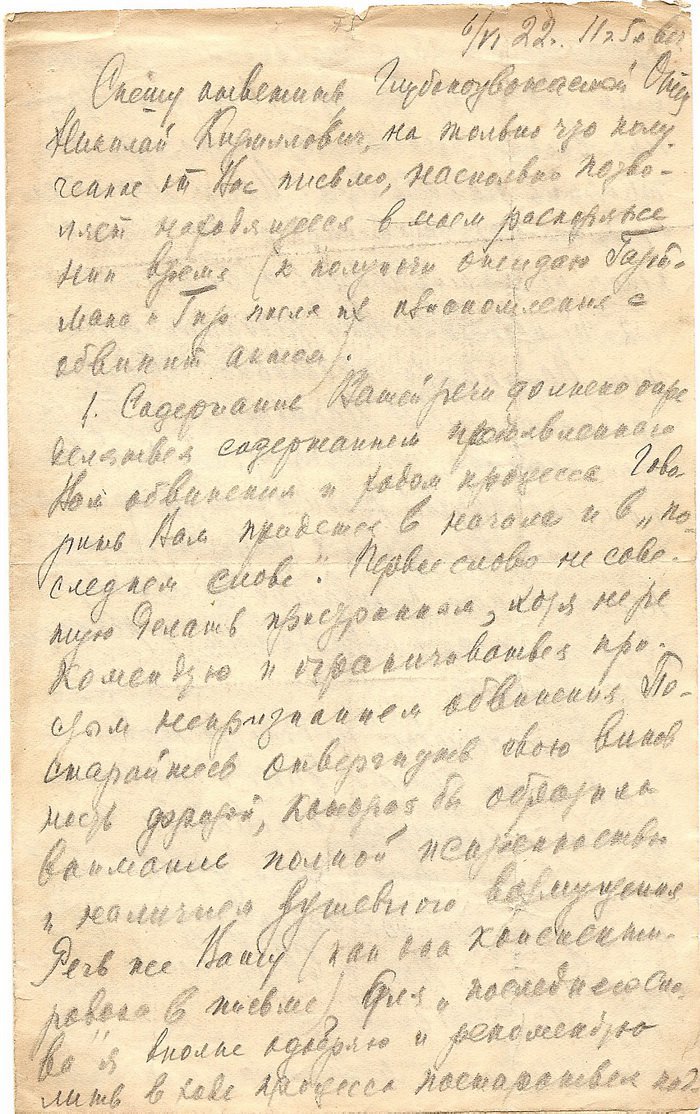 Около 12
часов пришли на свидание жена, Боря и Вера. Беседовали в отдельной комнате
долго, все рассказывали. Общество очень настроено против Алексия, по-видимому.
Это видно и из письма Л.Д. Аксенова, который находит, что хотя в рассмотрение
дела о Введенском епископ Алексий обязан был войти, то снятие - акт неправомерный, не только в отношении
Красницкого и Белкова, которые раскаяния не приносили, но и Введенского,
раскаяние которого не покрывает первого из обвинений митрополита (своевольный
выход из Правления приходов) и, кроме того,
акт голословен относительно предъявленных доказательств патриаршего
благословения на учиненные в Москве деяния. Тем не менее, судить епископа – не наше дело, а дело Собора епископов.
Около 12
часов пришли на свидание жена, Боря и Вера. Беседовали в отдельной комнате
долго, все рассказывали. Общество очень настроено против Алексия, по-видимому.
Это видно и из письма Л.Д. Аксенова, который находит, что хотя в рассмотрение
дела о Введенском епископ Алексий обязан был войти, то снятие - акт неправомерный, не только в отношении
Красницкого и Белкова, которые раскаяния не приносили, но и Введенского,
раскаяние которого не покрывает первого из обвинений митрополита (своевольный
выход из Правления приходов) и, кроме того,
акт голословен относительно предъявленных доказательств патриаршего
благословения на учиненные в Москве деяния. Тем не менее, судить епископа – не наше дело, а дело Собора епископов.
Леонид Дмитриевич (Аксенов. – Л.А.) пишет, что правильна редакция Парийского, что отстранение митрополита нельзя признать правильным. ВЦУ – самочинная организация, и помимо того, двое из подписавших членов в момент рассмотрения дела находились вне церковного общения, и являются лицами заинтересованными. Дает указания мне и относительно речей на суде. Пастырское собрание, говорят, прошло довольно бурно. Председательствовал о. Петровский. Боярский собирается быть свидетелем, а Введенский – защищать митрополита.
26 мая/8 июня 1922 г. Четверг. 9 часов вечера.
Сегодня утром вручили обвинительный акт. Целиком помещено мое показание.
Нас 16 человек обвиняют сильно, других – меньше, иных совсем слабо. Перемешаны и сбиты в кучу все: и организаторы, и агитаторы, и скрыватели. В общем, очень слабый акт, но статьи строгие: высшая мера наказания – расстрел.
И Леонид Дмитриевич пишет мне, что переживает величайшие страдания за Владыку, Юрия Петровича и о. Леонида, которым, по достоверным сведениям, предъявлено весьма тяжкое обвинение. Радуется за меня, который, как будто бы, отнесен к более легкой категории.
Дети были сегодня: Аня с Ниной Александровной, и Шура. Достали билеты на суд. Жена идти не может. Это и лучше. Суд назначен в субботу, в 3 часа. Обвиняют: Крастин, Драницын, Невский и Позерн. Защищают (кажется): Жижиленко, Гартман, Гиринский, Бобрищев-Пушкин, Рауш, Павлов и Иванов. Председательствует Яковенко.
Водить нас будут, кажется, отсюда – далековато – в Дворянское собрание, на Михайловской площади.
Снова обдумал свою речь и изложил ее. Не знаю, как выйдет. Порядков не знаю. Не повторяться бы.
27 мая/9 июня 1922 г. Пятница. 10 часов вечера.
Сегодня гуляли с двумя очередями. Я больше с отцом архимандритом Сергием – больше общего. Приходили ко мне Боря и Веруся. Сообщили, что был Чепурин и рассказал, что следователь его спрашивал, насколько я близок к митрополиту – и влиянии на дела. Тот ответил, что - земляк и естественно близок, но что собственных дел у меня много, и едва ли есть время заниматься сторонними. Спрашивал также, почему он, Чепурин, близок ко мне; известно, что в день ангела подарил мне 20 миллионов (!). Тот ответил, что не подарил, а поднес в день юбилея на Богословский институт, и что вообще меня очень уважает.
Удивительная осведомленность. Меня, очевидно, подозревают во влиянии на митрополита, отыскивая автора его обращений. Как удивительно ошибаются! Я и принципиально весь свой век не мешался в чужие дела, да и некогда из-за массы своих дел, да и намеренно уклонялся ввиду возможных завистников и неприятностей.
Леонид Дмитриевич тоже сегодня сообщил, что Н.М.Е. (Егоров. – Л.А.) передал ему, что меня подозревают во влиянии на митрополита в издании акта отлучения. Тоже! К удивлению, услыхал только в церкви, и тут же делился с Преосв. Алексием, находя, не преждевременно ли это, до получения точной копии патриаршей резолюции...
Написал об этом сейчас Леониду Дмитриевичу, чтобы он реабилитировал меня. Получил сегодня от Леонида Дмитриевича текст 62 и 119 статей, по которым мы привлекаемся. Статьи ужасны. 62 – влечет высшую меру наказания с конфискацией всего имущества; допускает при смягчающих обстоятельствах понижение до 5 лет строгой изоляции с конфискацией. При неосведомленности участника о конечных целях – 3 года.
119 статья – тоже высшая мера при военной обстановке, а иначе 3 года, или при неустановленности контрреволюционной цели – 1 год.
Узнал и точную резолюцию Патриарха на доклады Введенского, Красницкого и Белкова об образовании ВЦУ и о современном положении Церкви.
Она такова:
“6/19 мая 1922 г. Поручается поименованным лицам принять и передать Высокопреосв. Агафангелу (Преображенский. – Л.А.) синодские дела при участии секретаря Нумерова, а по Московской епархии – Преосв. Иннокентию (Летяев. – Л.А.) еп. Клинскому, а до его прибытия Пр. Леониду (Скобеев. – Л.А.), еп. Верненскому при участии столоначальника Невского. Патриарх Тихон”.
Написал сейчас письма Леониду Дмитриевичу, И.П.Щербову и жене.
Настроение к вечеру пониженное. Что Господь даст!
29 мая/11 июня 1922 г. Воскресенье. Около 10 часов утра.
Вчера был первый день суда, возвратились поздно, уставшие, и я, наскоро позакусив, уснул, отложив запись на сегодня. Официально суд назначен был в 3 часа дня; начался еще позднее, а между тем нас направили из тюрьмы (пешком, под конвоем) в 10 часов утра. Погода прекрасная, шли тихо (из-за сердечной болезни о. Союзова). По пути иные незнакомые кланялись, иные крестились, иные грустно качали головой, иные даже плакали. На площади перед зданием бывшего Дворянского собрания уже собралась порядочная толпа, встретившая нас цветами, подарками (мне передали цветы и булку). Шум, плач. Увидел нескольких своих прихожан и взволновался.
Провели в общую. Там уже Митрополит и Преосв. Венедикт, которых привезли в автомобиле. Поздоровались. Несколько поговорили. Стали подходить из других тюрем, с “воли”. В конце концов, набралась целая комната. Юрий Петрович оброс бородой, о. Леонид похудел. Получилась какая-то толкучка в течение нескольких часов. Накурили массу. Батюшки себя как-то распущенно иные держали. Разговоры - кто о чем; наиболее близкие к Правлению – о делах. Около митрополита и Венедикта Парийский, Зинкевич, тут же Бычков и иные. Разговоры больше мелкого, сплетнического характера, все о Введенском, об отношении толпы к епископу Алексию, сплошное осуждение его и Либина, советовавшего ему. Словом, разговоры все будирующего узкого характера, и совсем не видно мысли о том, как эту кашу лучше бы и возможно безболезненнее расхлебать...
Явились защитники, распределившие роли и подзащитных, беседовали с нами. Я с Юрием Петровичем попал к Гиринскому, который никаких указаний пока не озаботился дать. Новицкий, видимо, недоволен, что его защищает Гиринский. Ну, да будем надеяться при помощи Божией на себя.
Новицкому очень хотелось привлечь в качестве свидетелей членов Правления – Н.М. Соколова, Налимова и Аксенова. Последнего я отсоветовал, а первых двух не разрешил Трибунал.
Подавали нам чай, об этом все Анечка с Ниной беспокоились.
Наконец, повели нас в зал, рассадили по списку. Публики порядочно, знакомые – студенты, прихожане, дети: Аня, Боря, Шура.
Явился суд, и начались предварительные формальности, отнявшие полдня. Всего 87 человек обвиняемых, 15 человек защиты, 4 обвинителя (Крастин, Красиков, Лещенко и Драницын). Опрашивали каждого, и т.д.
Пока все шло прилично. Выделяются некоторые из адвокатов, как говоруны. Наш – слабоват, кажется. В один из перерывов, увидев Боярского, я коротко передал ему совет: непременно озаботиться получением полномочий от митрополита Агафангела. Он, по-видимому, уже думал об этом, потому что сразу сказал: “Да, да, хорошо”. Это было бы примирение и некоторое разрешение вопроса, который, собственно, стоит в тупике и чреват большими последствиями: при неканоничности ВЦУ, духовенство будет разделяться в его признании, а отсюда – раскол среди духовенства, раскол среди прихожан, соблазн, аресты и преследование непринимающих, и многое тому подобное.
Я хотел было вызвать в качестве свидетелей Васенко и Ильина, чтобы они засвидетельствовали о моем отношении к изъятию, но потом не стал на этом настаивать, ввиду громадного числа свидетелей. Все равно суд не разрешил бы: из 10 предложенных прошли только 7 человек.
Окончилось все в девятом часу. Но мы до 10 часов толкались еще в комнате: все ждали автомобилей, ибо народу на улице – масса и если идти – была бы манифестация. Говорят, Введенскому, который вышел из суда, толпа поранила камнем голову. Это скверно. Я говорил свободным священникам, чтобы в церквах сказали о вредности подобных эксцессов. Богоявленский подал мысль выразить Введенскому сожаление и осуждение поступку, но Митрополит, под резким влиянием Парийского, как-то заколебался и решил просить защитника заявить суду.
Не понимаю эту непримиримую линию. Несомненно, Парийский влиял и на акт отлучения.
Обратно нас в несколько минут примчали назад в автомобиле (грузовом). Первый раз в жизни пришлось проехать в автомобиле в качестве арестанта.
Сегодня с утра приобщился Святых Тайн запасными дарами и переслал их отцу архимандриту Сергию для И.М. Ковшарова.
29 мая/11 июня 1922 г. Воскресенье. Около 9 часов вечера.
Сегодня гуляли, делились вчерашними впечатлениями. Побеседовали по принципиальным вопросам. Я высказал Парийскому, занимающему вообще непримиримую позицию и избалованному близостью к митрополиту и потому резко относящемуся к епископам и властно высказывающему свои взгляды, – я высказал ему, что не одобряю акта отлучения, считаю его преждевременным, а в тот момент, когда уже он совершился, я бы настоял, на месте Алексия, чтобы был доставлен, хотя запоздалый, документ от Агафангела, ради мира Церкви, и тогда и владыка митрополит должен был бы снять отлучение. Что вообще необходима более широкая точка зрения на нужды и благо Церкви, а не крайняя и узкая.
31 мая/13 июня 1922 г. Вторник. 8 часов утра.
Вчера предполагали выехать в 10 часов, но из-за автомобиля вышли только в 11 часов и уже на полдороге сели. Суд начался около 1 часа и продолжался до 8 часов. Читали обвинительные акты, потом был опрос, признаем ли мы себя виновными, а затем в 6 часов 25 минут приступили к допросу Митрополита и допрашивали ровно час. Несомненно, не кончили и будут еще сегодня продолжать. На все вопросы он отвечал спокойно и дельно, никого не запутывая. Сущность ответов сводилась к тому, что он всегда власти подчинялся, стараясь постоянно быть в общении с паствой, он осведомлял и осведомлялся в Правлении, письма свои в Помгол оглашал к сведению, писал их сам... Председателю очень хотелось особенно сбить его на двух пунктах: сам ли составлял, и не было ли инспирирования от Правления, и не было ли распоряжения о распространении.
Я сижу шестым. Не знаю, дойдет ли сегодня до меня, если да, то, как Господь поможет. Дело в том, что председатель не дает мотивировать и освещать ответ, что было бы очень важно.
Народу на площади при нашем приезде было очень много. Встреча вообще всегда трогательная: цветы, передачи. Так что вчера я еле уместил все передачи, чтобы привезти их к себе в тюрьму. Даже порядочно роздал.
1/14 июня 1922 г. Среда. 9 часов утра.
Вчера поздно вернулись. Целый день мучили допросом митрополита и только вечером, около часу Юрия Петровича Новицкого.
Допрос митрополита производили и суд, и обвинение, и защита. Приехавший из Москвы Смирнов вел себя (от обвинения) настолько хулигански, так издевался, так был настроен разбойнически, что я удивлялся терпению митрополита. Защитник в одном месте прервал и указал на оскорбительность. После этого несколько тише стал. Во время перерыва, говорят, и суд и защита указали ему, что то, что, может быть, возможно, в Москве, не подходит в Петрограде, и после перерыва обвинение уже перешло к другим приемам: “будьте добры сказать”, “вы изволили сказать” и т.п.
Владыка страшно устал, видимо. Но держал себя и отвечал хорошо.
Юрий Петрович Новицкий очень подробно и хорошо осветил всю работу Правления. Что-то покажет сегодняшний день. Возможно, что после Новицкого могут вызвать меня, как товарища. Помоги, Господи!
2/15 июня 1922 г. Четверг. 10-11 часов утра.
Вчера опять очень поздно приехали, около 11 часов вечера. Почти целый день допрашивали Ю.П.Новицкого. Потом Елачича. Первый – хорошо, второй – слабо показывал. Сегодня, пожалуй, меня. Как поможет Господь! Дал Гиринскому целый ряд вопросов для себя, чтобы на них я выявил все необходимое для своей защиты. Только неудачный защитник: размазня, вопросов кратко ставить не умеет и это все впечатление портит.
Обвинители несколько стихли, хотя иногда проявляют хулиганские выходки. Как-то поможет мне Господь?!
В суде масса передач, все что-нибудь дают. Третьего дня масса народа стала ждать выхода Митрополита и, увидя его, запела молитву. Курсанты окружили, и всех, около 700 человек – на Шпалерную. Часть выпустили, часть – на принудительные работы... Вообще вечером, при нашем возвращении по улицам масса войск и конных разъездов. Шумели. А процесс – выеденного яйца не стоит.
3/16 июня 1922 г. Пятница. 10 часов утра.
Вчера допрашивали меня. С утра продолжался допрос Елачича – слабо. Потом Ковшарова – порядочно, продолжался 2 с половиной часа. Затем блестяще прошел допрос Бенешевича, он поочередно своими ответами “усадил в лужу” каждого из четырех обвинителей, так что даже московские гастролеры стихли. Зал ожил, настроение приподнялось. В конце 8-го часа вызвали меня и полтора часа допрашивали. Волнуясь до допроса, я на самом допросе чувствовал себя совершенно спокойно, отвечал громко, с достоинством, уверенно, с обвинителями даже по временам резко, не давая спуску ни одному их замечанию. Все четыре обвинителя предлагали мне вопросы и 5-6 защитников. Довольно полно выявил я свою линию поведения и развил свою основную точку зрения и свой план – постепенно воспитательного процесса над массами. Указал, что и у правительства была та же цель – переломления сознания, и я шел к этой цели и вывешиванием письма, и объявлениями о сборе, и личными разъяснениями, и проповедями.
Пришлось только немного не быть солидарным с митрополитом в характеристике второго письма - по поводу высказанного мною на предварительном следствии заявления о подавленном настроении от него, хотя я и объяснил, что был недоволен осложнением дела... Сегодня ночью подумал и составил проект показаний для благочинных и священников по вопросу о том, для чего они распространяли оба письма: для успокоения верующих, что переговоры ведутся и что будут даны указания. Это исправит положение дела - и письма митрополита тоже вносили успокоение...
4/17 июня 1922 г. Суббота. 10 часов утра.
Вчера пропустили довольно много. Особенно обрадовались обвинители, когда заполучили такого зверя, как архимандрит Шеин - член Думы, член Собора, националист. Драницын имел нахальство спросить, по внутренним ли искренним побуждениям он пошел в монахи. На это о. Сергий ответил: “Я считаю подобный вопрос для себя оскорбительным”. Как ни возились, но ничего, в сущности, поделать не могли. Да и вообще, как выясняет следствие, ничего серьезного не вырисовывается.
Мое выступление накануне описано в “Правде” совсем не по правде; пристрастие настолько беспардонно, что я не ожидал: вместо того смелого, открытого и ясного выявления всего хода дела, какой я сделал, тут отпечатано, что я и смущался, и не отвечал, и “расплывался туманно” и т.п. Можно врать, но, говорить совсем противоположное, как будто и для советской “Правды” должно было бы быть зазорно.
Ежедневное сидение с 12 до 10 часов вечера утомляет, и у меня к вечеру открывается головная боль. Скоро ли прекратится это мучение?
Многим из нашей группы предлагались вопросы о Карловацком Соборе, и о “Живой Церкви”. Мне тоже предложен был последний вопрос. Я сказал, что не знаю положения группы, а журнала еще не прочитал.
Драницын после, при допросе, кажется, Зинкевича, удостоил назвать меня “более или менее сознательным Петроградским священником”.
10 часов вечера.
Сегодня заседание суда окончилось в седьмом часу вечера и потому вечер свободный. Банщик предложил мне ванну (ухаживают здесь), сходил.
Сегодня допрашивали Парийского, Союзова, Кедринского. Все трое ответили хорошо. Дело выясняется, и если бы велось объективно, то и думать было бы не о чем. Но... в этом “но” – все дело.
Защитники (особенно Гурович) очень умело ставят вопросы и освещают истинное положение дела. Конец сегодняшнего заседания оказался чрезвычайным. Говорил Кедринский. Пытали его, пытали, а, в конце концов, когда речь зашла о “Живой Церкви” и отношении к ней, он взял да и выложил дословно фразу, сказанную Введенским на пастырском собрании о том, что расстрел 5 священников в Москве был ответом на его отлучение, а здешний процесс в исходе будет зависеть от нынешнего пастырского собрания.
Поднялась суматоха, тем более что Кедринский сейчас же дал такое освещение делу, что это – клевета на Советское правительство. Слова занесли в протокол, обвинение заговорило о необходимости допроса Введенского, и т.д. Суд ушел для совещания, совещался полчаса. Обвинители вышли оттуда с видом, свидетельствующим о больших дебатах. Решено допросить – в свое время. Хорошо, но клин вбит в дело огромный.
5/18 июня 1922 г. Воскресенье. Около 8-9 часов вечера.
Сегодня отдых; время проводим в тюрьме, отдыхая от сутолоки, табачного дыму и волнений, вызываемых нашими обвинителями, из которых Смирнов – какой-то дегенерат, нахал, и по натуре и по виду – палач. Другой – Красиков говорят, бывший помощник присяжного поверенного, алкоголик, пропивший совесть и потерявший стыд. Третий, Драницын – из духовного звания, бывший преподаватель, теперь “красный” профессор, дурак порядочный, чванный и тоже бессовестный. Четвертый, Крастин – наиболее приличный и приемлемый из всех.
Смирнов старается определенно издеваться, иногда грубо и нестерпимо. Это особенно чувствовалось в самом начале, при допросе митрополита. Потом все они, видимо, стали сдержаннее.
Красиков старался выявить связь с Карловацким Собором и с “Живой Церковью”, а Драницын все возится с “канонами”. Когда избавит нас Творец от вида этих зверских типов!..
Сегодня утром, после молитвы, прочитал литургию, причастился запасными Дарами. До обеда гуляли. Погода жаркая.
Днем предполагалось свидание с родными; были мои; но видеться не пришлось, потому что данное вчера разрешение не было доставлено сюда. В ком вина - завтра узнаем, но мы остались без свидания. Днем читал Тургенева.
7/20 июня 1922 г. Вторник. 10 часов утра.
Сегодня, по случаю памяти Володарского и манифестации, суда нет и мы свободны. Но свидания нет: все было подготовлено, но в последнюю минуту председатель почему-то не разрешил. Удивляюсь.
Вчера суд продолжался целый день. С правлением и благочинными покончено. Начались более мелкие дела. И подчас удивляешься, для чего люди привлечены, томятся по два месяца в тюрьме, часть из-за какой-нибудь глупой фразы, а то и вовсе без всякой причины.
Печальное зрелище представляют на суде наши старцы, вроде о. П.Виноградова: ничего не помнит, все перепутано, ничего не соображает. А тут еще Красиков специально занят только тем, что сбивает, не дает точно ответить, перебивает вопросы, а Смирнов расширяет смысл ответа, не дает уточнить. Словом, подтасовка и передержка идут во всем... И это-то называется отыскиванием истины!
Вчера узнал, что по распоряжению из района, запрещается какое бы то ни было преподавание Закона Божия до 18 лет, беседы, лекции и проповедь – по представленному за три дня подробному конспекту (а проповеди – как было сказано на словах – и совсем); запрещаются без разрешения проводы покойников, требуется срочное представление описей оставшегося имущества; ежемесячное представление средней посещаемости мужчин, женщин и детей в церкви; и ежемесячная отчетность о количестве браков, рождений и погребений. Словом, – стеснение до гонения, и это вопреки смыслу декрета об отделении Церкви от государства. Где же Введенский видит “блестящие перспективы” для Церкви при ее аполитичности и лояльности. Ведь и на “новую” – “Живую Церковь” так же будет распространять это запрещение проповеди Закона Божия... Приходится только молиться и назидать богослужением. А для этого настоятельно необходимо шире ввести русский язык в богослужение и всячески вести одиночное обучение Закону Божию детей в семьях.
8 часов вечера.
Сейчас сидел у меня в камере с 6 часов о. Союзов; пили чай, беседовали. Поделились мыслями по делу, о событиях. Коснулись даже мысли о сближении с католичеством ради общей борьбы с неверием и нападениями на Церковь. И, действительно, надо общий тон сравнительного (богословия. – Л.А.) в Богословском институте взять не враждебный, а любовный, в мысли желать объединения, шире смотреть на разности… Жена в письме сообщила свой разговор с защитником Гартманом. Тот сказал: “Дело Вашего мужа – лучше других, он произвел на судей приятное впечатление своей правдивостью, он очень хорошо делал показания”. Добавил, что нехорошо будет митрополиту, Юрию Петровичу, Ковшарову, Елачичу, о. Сергию и Карабинову (последнему потому, что – “профессор”).
9/22 июня 1922 г. Четверг.
Сегодня память моего отца. Помню себя малышом лет 6-7, когда мы в этот день пришли с ним к обедне в Новый собор. До сих пор ясно представляю все впечатления приятного света, чистоты иконостаса, какой-то особенной прозрачности воздуха. Помню, служил о. И.Модестов и вынес отцу просфору (почему? – не знаю). Этот случай особенно резко у меня в памяти всю жизнь. Служили в правом приделе (Вознесения). Тогда это был еще действительно “Новый”, чистый собор, всего лишь 5-6 лет назад строенный и освященный. А сегодня вот уже исполнилось 50 лет, как освящен собор, и меня с митрополитом приглашали на этот день в Петрозаводск на праздник юбилея. Но... оба мы сидим в тюрьме... Жаль. Вчера пошли уже мелкие дела на суде и только на полдня задержало дело Института глухонемых, никакого отношения к нам не имеющее. Всего допрошено 45 человек, осталось еще 40. Я дал своему защитнику вопросы для свидетелей – Введенского, Платонова, членов Правления.
Только едва ли Введенский явится. Он представляется больным, чтобы выйти из нелегкого положения. Недавно он поместил в “Правде” статью, где предлагал свои “положения” и, в сущности, выложил только, что Церковь – аполитична. Но зато тут же, наложил много ложного о Преосв. Алексии, Николае и епархиальном управлении, так что Преосв. Алексий послал в ВЦУ заявление о происходящем ввиду неправильного освещения всего Введенским.
Рассказывают невероятные вещи о поведении Белкова. Он с компанией явился к Преосв. Алексию с заявлением, что они - члены епархиального управления. Алексий на это заявил, что он никакого епархиального управления не знает, его не утверждал и на него не согласен. Произошло объяснение. При ссылке Алексия на верующий народ, с которым надо считаться, Белков заявил: “Духовенство мы подвергнем апробации, а народ – черт с ним!” Вот пастыри! Вот новая – “живая” Церковь. Как характерный штрих вчера сообщали из верных источников, что в распоряжение Белкова через Смольный переведено из ЧК 100 миллионов.
10/23 июня 1922 г. Пятница. Утро.
Вчера много пропустили подсудимых; иных спрашивали по 4-5 минут; к иным обвинение не нашло возможным ни одного вопроса предложить. Люди томятся по 2-3 месяца в тюрьме, а обвинение, в конце концов, не знает, что им предложить. Обнаружились кошмарные вещи: хватали направо и налево, кого вздумается, били рукоятками револьверов ни в чем не повинных людей, ругали отборной руганью только за то, что человек крестился на церковь, и т.д. Иные из вопросов обвинителей (Красикова, Смирнова) были гнусны: о преподавании Закона Божия детям Киселевых, о святительстве свят. Патриарха и т.п.
Печальное явление было показание свящ. Иоанна Орнатского; туп как пробка, путается в самых простых вещах, просто срам. И это – настоятель! Вот протекционизм.
В перерыв было разрешено свидание мне. Была жена, Аня, Боря, Нина. Пили чай. Переговорили обо всем… Хотел, было, я достать из района удостоверение о спокойном изъятии ценностей с 4 по 18 мая, но и этого не изволили дать. Удивительно бессовестные люди, для которых правда не существует.
Да, скверное на меня впечатление произвело показание студента Попова – сына священника Иоанновского монастыря; выросший на церковные средства всецело, живущий в 10 шагах от монастыря, и – заявляет, что он три раза в год бывает в церкви! Позор! Сохрани, Господь, от таких детей.
Жена сообщила вчера, что 62 статья с меня снята будто бы, по словам Гартмана. Все-таки не улыбается сидеть 1-3 года в тюрьме без всякой вины.
11/24 июня 1922 г. Суббота. Утро.
Каждый день не обходится без инцидентов. Вчера вечером допрашивали двух священников – настоятелей Дьяконова и Бобовского, и оба много напутали, забравшись в дебри собственного “отношения” к письмам митрополита. Смирнову и Красикову только этого и нужно было. Впечатление ужасное и просто стыдно за таких настоятелей. Вот наука, кому это следует знать, – как надо быть осторожным и разборчивым в выборе ответственных лиц.
Вчера жена передала, что приходской совет вынес мне полное свое сочувствие и заверение помогать, насколько хватит сил. Дают деньги на защитника. Решили считать меня настоятелем, сколько бы я ни сидел. Никого другого не принимать, объявить только пять вакансий. Спасибо им за поддержку, сочувствие и твердость.
Что-то будет? Не чувствую за собой ни малейшей вины и как-то не могу даже думать, что буду осужден. Тем труднее будет выносить приговор об осуждении. Ну, Господь поможет!
11/24 июня 1922 г. Суббота. 8 часов вечера.
Сегодня суд закончился раньше – в 7.15 мы уже были дома. Подсудимые все допрошены и начинается допрос свидетелей. Перед этим обвинители выкинули трюк: заявили, что просят об изменении меры пресечения целому ряду лиц об освобождении из-под стражи (в том числе Бычкова и Союзова), а с другой стороны - о заключении под стражу Елачича, Огнева и Кедринского. Защита тоже сделала заявление. В результате освободили 19 человек и посадили троих.
…Смирнов подчеркнул, что виновники агитации и затяжки дела – духовенство, а из духовных центральной фигурой хочет сделать отца архимандрита Сергия.
Допрашивался сегодня свидетель Канатчиков. И с позором: стал отказываться от показаний на предварительном следствии, и всячески старался отмежеваться от первого письма митрополита и от разрешения Заборовскому его огласить. Однако Гурович и отчасти Гиринский достаточно вывели его “на свежую воду”, и он порядочно повертелся, да и еще повертится в этом деле. Бог правду видит.
Однако из всего сегодняшнего дня я вывожу заключение, что - как это ни странно, как это ни вопиюще несправедливо, но придется получить наказание какое-то, может быть и большое.
12/25 июня 1922 г. Воскресенье. 8 часов вечера.
С утра приобщался запасными Св. дарами. Гулять не выходил: принимал аспирин, потому что чувствовал некоторую простуду. Приходило начальство, справлялось. Днем брал ванну. Вчера такая масса приходила за хлебом, что роздал все; завтра кое-как утром справлюсь, а днем надо просить в суде, чтобы свои снабдили. Целый день читал Тургенева, 10 том.
14/27 июня 1922 г. Вторник. 9 часов утра.
Вчера в суде было дело с большими инцидентами. Допрашивался свидетель проф. Н.М. Егоров. Рассказал все прекрасно и обвинению не дал ничего. Обмолвился лишь в конце и, как оказалось, сам не сознавая, о воззвании к массам, о котором будто бы было решено на собрании 11 марта у Аксенова. Обвинение отождествило это с вторым письмом и ввиду того, что Егоров был причастен всему делу переговоров, обвинили его в активном участии в преступной организации и привлекли к суду, настояв на заключении под стражу. Сколько ни протестовала защита о невозможности такого рода перемены свидетеля в подсудимого, о терроре над священниками, ничто не помогло, и – Егорова арестовали.
Вторым допрашивался Заборовский, показывал хорошо, изложил всю правду относительно посещения Смольного, о своей лекции. Обвинению тоже не дал никакого материала. Но в конце что-то намудрил относительно контрреволюционности в Церкви Русской, и хотя Гурович его вывел потом и заставил объясниться, что он разумел Карловацкий Собор, но обвинение все-таки зафиксировало эту “контрреволюционность” Церкви в своих видах.
В конце произошел печальный инцидент. Обвинитель Смирнов (московский), нахал и хам, из булочников, натаскавшийся говорить, хотя и с большими неправильностями (“дéяния, кодéкс, в целя¢х”), конечно, не воспитан и не разбирается в выражениях. Гуровичу он бросил обвинение в передергивании; тот, как и вся защита, протестовал, но ему, все, ни по чем. Он не понимает оскорбления, заключающегося в этих словах, не понимает даже, что это термин шулерский, как объяснил ему Бобрищев-Пушкин, и в сознании своей “невинности” нагло отстаивал свою правоту и свое право и в будущем прибегать к таким же терминам. Что поделаете с такой публикой...
Суд – сами коммунисты, конечно, в силу партийной дисциплины, поддерживают своего, и вот – “справедливость”!.. Где тут святое имя правды? Возможно ли беспристрастие? И можно ли даже думать о том, что наша невиновность может обнаружиться на подобном суде? Конечно, нет. Совершенно ясно, что мы все, без тени вины, будем осуждены и осуждены жестоко, как враги пролетариата. И это я, я – вышедший из народа, сам все лучшие годы жизни употребивший на служение народу, на его просвещение... Ну, значит, так надо для целей высших. Да будет воля Божия!
С воли сведения, что приехавший из Москвы Красницкий являлся к епископу Алексию принимать епархиальное управление, грозил, собирает благочинных, рассылает анкеты духовенству для их сортировки; предполагается единая касса, все заберут в свои руки.
Естественным был бы ход, переговорив с Зиновьевым, объявить автокефалию Петроградской Церкви, но власть здесь покровительствует этой группе, и возможное в Нижнем Новгороде, едва ли возможно здесь.
У нас в соборе о. Тихомиров и о. Либин не подпишут анкеты, ну а о. Рождественский – конечно.
Что будет? Что будет с Церковью? Как устоят верующие? Испытание тяжелое постигло нас. Спаси и помилуй, Господи.
15/28 июня 1922 г. Среда. Утро.
Вчера был интересный день в суде. Допрашивали трех свидетелей:
Красницкого, Чиркина и Боярского.
Первый – уже заместитель председателя ВЦУ. Объяснялся с развязностью человека, которому власть – за панибрата. В выдумывании “фактов” не стеснялся. И все, что ни слышал, что ни подумал, все это для него – факты. Таким образом, он усмотрел в правлении Общества приходов определенное намерение кадетствующих мирян вести политическую пропаганду; в приходских советах – явные захваты власти и главное – той же самой кадетствующей партией мирян; в Казанском соборе увидел главный центр, откуда исходило влияние во все концы, чтобы ценностей не отдавать; что там, как и на Песках, велась даже запись для защиты ценностей; что я играл большую роль в правлении и т.п. Изложил он и “принципы” новой “Живой Церкви”, и – Боже – до чего они мелки и... глупы: все дело сводится к тому, чтобы уничтожить в приходских советах власть мирян над священниками, освободиться от гнета монашествующих епископов, да вообще что-то о поддержке трудящихся. Прав был Введенский (очевидно, философ проф. ун-та А.И. Введенский (1856–1925). – Л.А.), когда говорил, что и «те, кто хотят произвести раскол в Церкви, слишком мелки для этого».
Порядочно вылил грязи на митрополита и вообще для обвинителей дал много “материала”, хотя и фантастического.
Защита все-таки его сажала “в лужу” и конфузила и Русским собранием, и докладом об употреблении евреями христианской крови, но - с него, как с гуся вода. Нахал, каких мало.
Чиркин подтверждал свои прежние показания и несколько реабилитировал меня, припомнив (на мой вопрос) фразу, которую он сказал в заседании 13 марта, во время перерыва, что “вот мы трое (он, я и Платонов), сидя в разных углах и не сговариваясь, высказались, однако, совершенно одинаково по вопросу о срочности и порядке изъятия церковных ценностей”.
Боярский говорил в общем, очень хорошо, много выгораживал Митрополита, прекрасно выразил настроение рабочих масс (против изъятия), вообще дал много хорошего материала для защиты, и мало для обвинения. Меня тоже реабилитировал, сказавши на вопрос обо мне Гиринского, что я в беседе с ним о письме 12-ти узнав истинные причины, сказал: “Это совершенно меняет дело. Скорее бы вообще изъяли ценности, и все успокоилось бы”...
Что-то еще покажут Платонов и Демченко. Последний, собственно, и посадил меня на скамью подсудимых, сказавши, что видел вывешенное в Казанском соборе первое письмо Митрополита.
16/29 июня 1922 г. Четверг. Утро.
Вчера суд окончился почему-то в 8 с половиной часов. Вечер был хороший, и мы сначала отвезли товарищей во II-й исправдом, а уже потом к себе поехали.
Весь день вчера допрашивали свидетелей обвинения - официальных лиц: представителей районных исполкомов, комиссий, милиции. В общем, все это люди деловые и порядочные. Только один прохвост был (последний) из членов Президиума Петроградской стороны, да барышня Кружкова, которая по собственному почину написала донос на свящ. Никитина (вероятно, по наущению Иванова, заведующего церковным столом).
Вчера было собрание благочинных с Красницким. Интересно, чем закончилось. Сегодня будет известно.
17/30 июня 1922 г. Пятница. Утро.
Вчера неожиданно допрос свидетелей был прерван и объявлены прения сторон. Платонов, Дроздов, Демченко, Яцкевич по нашему делу остались недопрошенными. Жалеть ли? Едва ли; в последние дни обнаружилось явное тяготение Трибунала в сторону обвинения, все, что предлагалось защитой, непременно отклонялось, и наоборот. Так что все равно, что бы ни показали свидетели в пользу обвиняемых, не имело бы никакого значения для судей.
Вчера успел сказать речь только Красиков. Говорил 1 час 3 минуты. Сказал речь настолько легковесную, что, право, не стоило для этого приезжать из Москвы и жить здесь месяц. Вся его речь сводилась к обоснованию статьи 62-й для применения к Митрополиту. Поставлено было в вину и то, почему митрополит в марте 1921 года не протестовал против увольнения его от управления заграничными церквами и не обратился к Советской власти за содействием. Речь была очень жидкая.
Сегодня Смирнов будет пускать громы и молнии против Правления. По-видимому, начали спешить – и не придется ли сегодня уже говорить и “последнее слово”.
Вчера Жижиленко секретно передал от Платонова мысль о желательности привлечь меня с Богоявленским для влияния на духовенство, – как результат собрания благочинных с Красницким. Высказывалась мысль и о том, чтобы митрополит в своем последнем слове благословил бы духовенство идти на спасение Церкви и на новую работу, но... он упорствует – думаю – под влиянием окружающих узких людей – Венедикта, Парийского и т.п. Пока в лозунгах нет ничего неприемлемого. А между тем надо спасать Церковь, ибо тот сумбур, который поднялся теперь с уходом (очень неумным) Преосв. Алексия, может расколоть и духовенство и мирян. А это и есть конечная цель власти, орудием (слепым) которой являются Красницкий и К°. Надо сохранить единство, уберечь от раскалывания и ухитриться – пойдя на работу – не допустить того разрушения Церкви, которое желательно Советской власти. Вчера было свидание с женой, Аней и Ниной. Приходил перед этим и Коля.
18 июня/1 июля 1922 г. Суббота. Утро.
Вчера нас позорили. Нарочно вход был без билетов, нарочно привели и командировали коммунистов на речь Смирнова. Этот московский гастролер ругался, кричал, стучал, грозил, потрясал, и, в конце концов, охрип. Кажется, натащил все ругательства. И лжецами, и обманщиками величал, и трусами, и чего-чего только не нашел в нас. Меня обличал в лицемерии и не простил мне правдивого и развязного тона, сказав, что я самым безпардонным, безшабашным образом пытаюсь доказывать то-то и то-то, а постановление 15 марта – “ничего не давать”... В конце концов, разобрав Патриарха, Митрополита, Новицкого, Ковшарова, Шеина, Огнева, Чельцова, меня, Богоявленского, Карабинова, Зинкевича, Преосв. Венедикта, Петровского, Бычкова, Бенешевича, Парийского и Елачича, требовал ко всем этим 16 человекам высшей меры наказания. Половина зала аплодировала (что несколько раз делалось и во время речи). Председатель для виду позванивал и тихонько предупреждал о непозволительности аплодисментов.
Все было, как следует. Во время перерыва комендант объявил, что аплодисменты недопустимы, но когда все уже сделано, то... отчего бы не поиграть в безпристрастие! Драницын говорил порядочно, обвинял, главным образом, священников.
Крастин обвинял 54 человека. Говорил удовлетворительно, хотя не по-ораторски. Неожиданно я удостоился от него комплимента, который потом повторял и Жижиленко. Говоря об организации, Правлении он приводил, какими силами кто обладал и что, если бы эти силы пошли на другое дело, на служение народу?! “Вот Чуков - человек высокого ума, блестящий оратор, так тонко и красиво умевший показать здесь перед Трибуналом ход дела, что когда он садился на место, я задал себе вопрос, да за что же обвиняют этого человека?.. И вот такими силами обладала эта организация”...
После, вечером, Гиринский сообщил мне, что он беседовал с Крастиным, и спросил, как понимать его - в худую или хорошую сторону? “Как угодно, – ответил он и добавил, – Вот действительно, светлая личность, вот кому бы быть митрополитом, тогда не было бы таких процессов”... Вот где нашел себе почитателя и защитника!
19 июня/2 июля 1922 г. Воскресенье. Утро.
Перерыва нет, сегодня продолжение. Вчера был прекрасный день, закончившийся, однако, скверно. Сначала кончал свою речь А.А. Жижиленко, потом говорил Я.С. Гурович. Оба, а особенно последний, прекрасно, художественно, мастерски сказали свои речи. Их не перескажешь. Надо достать стенограммы и распространить. Вероятно, когда-нибудь и отпечатают.
Но затем, вечером, начал Гиринский, – на беду наш с Новицким защитник, сам навязавшийся. Понес какую-то околесицу, стал полемизировать с обвинителями по каким-то без системы вопросам отдельным, туманно, безалаберно. Председатель дважды останавливал, наконец, сделал перерыв, во время которого защита настояла, чтобы он больше не продолжал, а нас взял на себя Равич. Трибунал согласился, и сегодня выступает Равич. Наскоро Новицкий передал суть дела; я еще вчера для Гиринского заготовил целиком защитительную речь и тоже передал ему. Сегодня встал очень рано, написал дополнительно, составил для себя “последнее слово”. Как-то пройдет, и что-то будет? На душе спокойно. Воля Божия!
20 июня/3 июля 1922 г. Понедельник. Утро.
Вчера суд продолжался с 12 до 7 часов. Выступали защитники: Равич (за Новицкого, меня, Петровского и Карабинова), Элькин за Елачича… Гамбургер (за Институт глухонемых и др.) и Иванов, еще не окончивший речи. Все говорили более или менее хорошо. Особенно выделились Равич, Энтин, Павлов и Элькин.
Новицкого и меня Равич очень хорошо защищал: без излишеств, в существенном, но ярко. В конце концов, признал, что меня не за что судить, что в Правлении я – “блестящий оратор”, никогда не выступал (“рта не раскрывал”), что 11 марта Владыка пригласил случайных лиц и в том числе меня, очевидно, разделяя взгляд обвинения на меня, как человека “высокого ума”.
И больше о Правлении мне нечего приписать. Как священник, я честно и прямо сказал, что вывесил первое письмо, но указал и цель, и обстановку, и дальше ярко нарисовал, как я вел все дело для выполнения декрета. Как все духовенство, я был между молотом и наковальней, и надо было очень мудро провести это дело, “что он и сделал”. В результате – не в чем обвинять. Закончил он указанием на безрассудность, недопустимую в умных людях, – в этом отказать подсудимым нельзя, – бороться такими средствами и таким воинством с упрочившейся Советской властью.
Павлов очень горячо и сильно нападал на обвинителя Смирнова за его жажду крови и, указав на смерть свящ. Семенова, только что умершего в тюрьме, предлагал ему – уж если ему так нужна смерть, – заменить Богоявленского Семеновым... Вышло очень сильно. Хорошо, красиво и развязно наложил Смирнову и Энтин за Бенешевича, к которому ничего решительно не предъявив, обвинитель тоже требует смертной казни. Его речь была полна примеров, и слушалась с большим интересом. Сегодня продолжение речей и может быть уже и наше “последнее слово”…
Вчера пронесся слух, что митрополит Агафангел разослал послание, в котором благословляет каждой епархии управляться автономно, но ВЦУ не признает, а от Преосв. Алексия Л.И. Жижиленко прислала известие, что Красницкий обязался декларацией перед ВЦИКом, чтобы произвести революцию в Церкви, что тот обещал ему помогать, и что при таких условиях никакая работа с ними невозможна – они предадут.
21 июня/4 июля 1922 г. Вторник. Утро.
Вчера закончились речи. Говорили защитники: Иванов, Ольшанский, Гартман, Мойшензон, Рауш, Генкен, Бобрищев-Пушкин.
Все говорили более или менее хорошо. Интересно, прелестно говорил Генкен (с большим юмором изображал мелкие персонажи этого дела). Хорошо закончил Бобрищев. Но ужасным диссонансом прозвучала речь Ольшанского, который сильнее обвинителей топил духовенство и Церковь, как не только гнилой организм, но и заражающий общество, и требующий изоляции в исправдомах... Коллеги ему потом наложили, и я думаю, что участие его в коллегиальной защите в дальнейшем для него кончено.
После перерыва говорили снова Красиков и Смирнов. Основательности по-прежнему никакой, а у Смирнова – оглушительные выкрики и ругань защитников. Особенно сильно нападал на Митрополита, меньше на Новицкого, затронул Ковшарова и Елачича и умолчал о других. В конце требовал применения 62-й статьи, но упомянул и о снисхождении, упомянул и о возможном недовольстве массы здесь... Сдвиг.
Сегодня отвечают защитники, а затем и наши “последние слова”. Мой защитник, просмотрев проект моего слова, просил добавить о членстве в Правлении, о Живой Церкви и о семье. Исполнил до некоторой степени, насколько это вязалось с ходом моих мыслей.
22 июня/5 июля 1922 г. Среда. 1 час дня.
 Вчера с утра отвечал Гурович на реплики
обвинителей, сказал сильно и красиво. Затем было предоставлено “последнее
слово” подсудимым. Владыка сказал просто и хорошо. Ю.П. Новицкий предложил себя
в жертву, если она нужна, чтобы не гибли другие. Бенешевич хорошо ответил
Смирнову. Я очень горячо и с волнением сказал свое, так что когда сел, то сразу
ударило в голову, и началась сильная мигрень, продолжавшаяся до позднего
вечера, пока в тюрьме не принял пирамидон. Так что с трудом слушал дальнейшие
речи, из которых Кедринского и Акимова были удивительно неуместны: говорили о
плодотворности своей пастырской работы, забывая, что эта-то работа коммунизму и
нежелательна.
Вчера с утра отвечал Гурович на реплики
обвинителей, сказал сильно и красиво. Затем было предоставлено “последнее
слово” подсудимым. Владыка сказал просто и хорошо. Ю.П. Новицкий предложил себя
в жертву, если она нужна, чтобы не гибли другие. Бенешевич хорошо ответил
Смирнову. Я очень горячо и с волнением сказал свое, так что когда сел, то сразу
ударило в голову, и началась сильная мигрень, продолжавшаяся до позднего
вечера, пока в тюрьме не принял пирамидон. Так что с трудом слушал дальнейшие
речи, из которых Кедринского и Акимова были удивительно неуместны: говорили о
плодотворности своей пастырской работы, забывая, что эта-то работа коммунизму и
нежелательна.
Перерыв до 6 часов вечера сегодня. Суд удалился на совещание. Забрали в тюрьму и всех тех, кто был на свободе. Защита готовится к выезду в Москву для перенесения дела в Кассационный трибунал, несмотря на то, какое будет вынесено решение, потому что вообще нет состава преступления.
Народу вчера было много. Во время моей речи в зале были жена, Коля, Боря и Аня. Вчера сообщили мне, что скончался наш протодиакон И.Е. Аркадьев. Царство небесное!
В 3 часа выезжаем в Трибунал. В 6 часов – приговор. Что-то будет?.. Состояние духа спокойное. Сегодня утром приобщался.
23 июня/6 июля 1922 г. Четверг. 8 часов утра. I-й исправдом.
Совершилась великая несправедливость: мы – 10 человек осуждены на расстрел...
Взяли нас из III-го исправдома в 3 часа дня. Ждали мы до 9 часов вечера. Защитники приходили много раз, успокаивали, советовали “не бояться бумаги”, “не бояться сегодняшнего дня”, убеждали, что “окончательный итог будет более или менее благополучен”...
Наконец, в 8 3/4 часа вечера нас пригласили в зал. Там была масса народа, много охраны. Мы на этот раз тоже вышли не обычно, а сначала во главе с митрополитом духовенство, потом – миряне...
Трибунал долго читал обвинительный приговор. Уже по началу, по мотивировке, было видно, что осудят. Вопрос был только в том, кого и как. Наконец, председатель дошел и до этого. Сначала обмотивировал отдельно – Владыку митрополита, Новицкого, Ковшарова, Богоявленского и Чельцова. Потом перечислил сразу всех других – Чукова, Плотникова, Елачича, Огнева, Шеина, Петровского и Бычкова, и в качестве обвинения указал, что мы: 1) составляем активную группу членов Правления, 2) принимали активное участие в Правлении, 3) разрабатывали там вопросы о противодействии изъятию церковных ценностей, с целью возбуждения народных масс до ниспровержения Советской власти. И в заключение сообщил определение Трибунала, что митрополит, Новицкий, Ковшаров, Богоявленский, Чельцов, Чуков, Плотников, Елачич, Огнев и Шеин подлежат высшей мере наказания – расстрелу. Другие – кто на 5 лет (Парийский), кто на 3 года (Бычков, Союзов, Кедринский), кто на 6 месяцев. И целая большая группа, в том числе Бенешевич, Карабинов и Зинкевич или оправданы, или осуждены условно (как Левицкий) и отпущены на свободу.
В зале заседания – истерика. Трибунал добавил еще о 48-часовом сроке и прочее тому подобное, и удалился, а нарочно приглашенные разные члены Коммунистических курсов и т.п. стали неистово аплодировать смертному приговору! Боже! Надо потерять все высшие человеческие чувства, чтобы приветствовать осуждение на смерть... Вот что воспитывает в массах коммунизм, хвалящийся идеями равенства и братства! – воспитывает чувство гнева и ненависти, отравляет ими нацию (с той и другой стороны), и думает, что этим путем достигается благополучие!.. Да, может быть, внешнее (и то - едва ли), а внутренняя удовлетворенность? А чувство справедливости? А любовь?..
 В зале были Аня, Коля и Боря. Я знаками
показывал Анечке держаться твердо. Но, по-видимому, от нее исходил потом крик
“папа, папа”, когда мы пошли уже в свою комнату. Бедная девочка! Бедные,
дорогие мои! Как им тяжело переживать все это! Я сам спокоен, совершенно
спокоен, потому что на совести нет ничего преступного, потому что знаю, что я
совершенно невиновен в том, в чем меня обвиняют, что даже стыдно получать ореол
какого-то мученичества за то, что ничего не сделал... Скорблю и переживаю, душевное волнение только за них; знаю, как
убивается жена, как плачет Веруся, как плачет Анечка, и – несомненно, хотя и молчаливо, страдают Коля, Боря и Шура. Жаль,
что последнего не видел в зале.
В зале были Аня, Коля и Боря. Я знаками
показывал Анечке держаться твердо. Но, по-видимому, от нее исходил потом крик
“папа, папа”, когда мы пошли уже в свою комнату. Бедная девочка! Бедные,
дорогие мои! Как им тяжело переживать все это! Я сам спокоен, совершенно
спокоен, потому что на совести нет ничего преступного, потому что знаю, что я
совершенно невиновен в том, в чем меня обвиняют, что даже стыдно получать ореол
какого-то мученичества за то, что ничего не сделал... Скорблю и переживаю, душевное волнение только за них; знаю, как
убивается жена, как плачет Веруся, как плачет Анечка, и – несомненно, хотя и молчаливо, страдают Коля, Боря и Шура. Жаль,
что последнего не видел в зале.
Очень просил Зинкевича, Гартмана и других зайти сразу домой и успокоить тем, что принимаются все меры к смягчению приговора. В частности, чуть ли не Исполком Петросовета посылает ходатайство об этом.
Ну, что Бог даст. Да будет Его святая воля!
Нас – “смертников” взяли отдельно и отвезли новой дорогой в I-й исправдом. Сопровождали два автомобиля – с вооруженными солдатами и чекистами. Здесь нас записали, опросили, обыскали и усадили в камеры смертников, в первом этаже, по двое. Мы – с Юрием Петровичем.
Вот провели и первую ночь. Беседовали об этом кошмарном деле, о всей искусственной его вздутости, о полной невинности, о бесполезности всей процедуры суда: ведь в обвинительном приговоре упомянуто все, что опровергнуто показаниями, сохранены даже все опечатки и ошибки в датах, в наименовании отдельных лиц (Богоявленский – “благочинный, распространявший по своему благочинию письма митрополита”!). Словом, полное невнимание ко всему, выявленному в пользу подсудимых и, наоборот, внесение в приговор того, что не в их пользу – с точки зрения обвинения; это – членство в Думе Шеина, сенаторство Огнева и тому подобные глупости, которыми, хотя бы для виду, надо было вздуть обвинение и процесс.
Положительно не ожидал подобного пристрастного одностороннего отношения Трибунала. Зачем тогда было создавать процесс, вести его 25 дней? Инсценировать подобное “правосудие”? Как это недостойно, как это унижает власть...
Вчера (7 июля) при обыске взяли трудовую книжку и в ней мою последнюю речь на суде, мое “последнее слово”. Если не возвратят, напишу его здесь, – на память детям. Может быть, впоследствии, без меня, найдется возможность издать часть моих речей, проповедей и прочее. Может быть, и мой дневник послужит материалом для печати, может быть, кто-либо из детей использует его со временем, как некоторый исторический материал. В качестве такового же, необходимо, чтобы дети сохранили мою переписку с Шемякиным, Ванчаковым (в ней – вся история церковного просвещения в Олонии за 20 лет), как и другую. Вообще надо, чтобы люди опытные (может быть, И.П. Щербов, или Бенешевич, или кто другой) рассмотрели весь мой архив и сдали его на хранение в какое-либо учреждение (Богословский институт, Академию Наук или что-либо подобное). Там, несомненно, много материала для истории того дела, в котором я в эти 27 лет принимал участие.
Думаю пока прекратить дневник и отослать его домой до времени, когда выяснится, что мы останемся живы. Тогда можно будет вновь продолжить его. А если этого не будет, то пусть он закончится этим печальным моментом.
Жизнь прожита. Прожита – признаюсь откровенно – с пользой для общества. Жизнь была интересной. Дай, Бог, детям также честно, энергично и плодотворно трудиться для Родины, как это сделал их отец. Да будет Божие благословение на них. Милые, дорогие мои. Будьте честны в жизни, в работе. Будьте друг с другом добры, заботливы, нежны. Поддерживайте всегда и во всем друг друга. Берегите маму, сосредоточьте теперь на ней одной всю ту любовь, которою любили вы меня с ней. А обо мне молитесь! Не забывайте наших семейных памятных дней; сходитесь в эти дни вместе на молитву друг за друга, за маму, за меня.
Храните веру крепко, любовь к Церкви. Это мое последнее вам завещание.
Я всегда духом с вами. Всегда моя любовь и моя молитва будет с вами, будет хранить вас, и в молитве вы всегда будете в общении со мной, буду ли я жив, или буду там, где Господь отведет мне место в иной жизни. Господь да хранит вас всех!
Спасибо и всем, кто помнил меня и проявлял ко мне любовь и заботливость.
Прошу у всех молитв о себе.
Верусю прошу с любовью пройти курс Закона Божия с Боречкой (богослужение и катехизис с историей Церкви). Всех прошу помочь Верусе стать на ноги, доучиться, чтобы жить самостоятельно. Храни вас Господь!
Записки протоиерея Николая Кирилловича Чукова, написанные во время нахождения в тюрьмах (в Доме предварительного заключения на Шпалерной и во 2-м Исправдоме (б. Пересыльной тюрьме) на Константиноградской ул.,6) с 5 июля (н.с.) 1922 г. по 22 августа (н.с.) 1922 г.
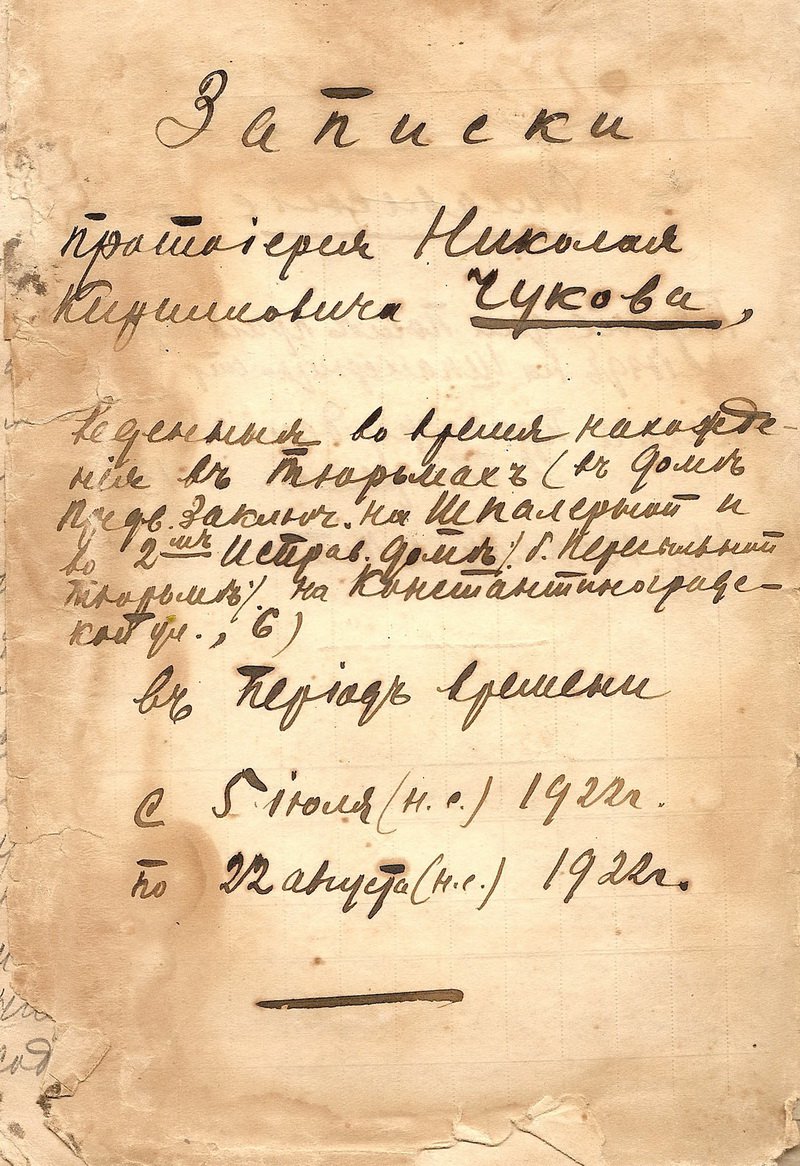 Первые дни после приговора.
Перевод на Шпалерную.
Первые дни после приговора.
Перевод на Шпалерную.
После вынесения приговора, 5 июля вечером, нас, приговоренных к расстрелу (8 человек, кроме митрополита и Преосв. Венедикта, которые все время находились на Шпалерной, в доме предварительного заключения), повезли не в 3-й исправдом, где мы жили, а в первый, в сопровождении целых двух автомобилей (один с агентами ЧК, другой с вооруженными солдатами). Там выстроили, тщательно обыскали (взяли у меня кожаный пояс, подтяжки, ножницы, нож, даже трудовую книжку) и посадили по двое по камерам нижнего этажа, где обыкновенно содержатся “смертники”. Мы согласились с Юрием Петровичем Новицким сесть вместе, и нас посадили во вторую камеру. Разместились – он на койке, я на полу. Отношение было доброе и разговоры с нами через форточку довольно частые.
Утром из дому (6-го) мне принесли передачу и вещи из 3-го исправдома (я из суда написал об этом жене заранее), установили кровать, и мы зажили... Сразу же предложили каждому из нас написать “кассацию” в Верховный трибунал, потом принесли копию приговора, который мы по очереди и читали. Прошла и вторая ночь. Наступила пятница, 24 июня/ 7 июля. Мы уже поуспокоились. Я записал в дневник все свои впечатления и думы, свои завещания и прощальные пожелания и, кстати, все свои бумаги и дневник отправил с обратной передачей домой, решив пока ничего не писать. И хорошо сделал, как потом оказалось.
Не успели мы пообедать, как появился отделенный Демин и предложил нам собирать вещи и отправляться. Куда? – Неизвестно. Юрий Петрович несколько растерялся спрашивать: “На полигон? Но ведь днем не возят туда, да и 48 часов еще не истекло, да и кассация подана”... Демин сначала как будто сказал “нет”, потом, видимо, сам растерянный не знал, что говорить. На вопрос Юрия Петровича “брать ли вещи?”, даже сказал: “Да оставьте вещи”. Видимо думал, что уже все кончено... Я тем временем собрал все свои вещи, сложил частью и вещи Юрия Петровича, завязал. Пришлось торопиться, ибо Демин все понукал. Наконец, все собрано; вышли. Оказывается, комендант трибунала в закрытом автомобиле приехал, чтобы перевозить нас всех по двое на Шпалерную. Поехали. У ворот смотрю какими-то судьбами - Боря и Верочка. Увидели нас, побежали вслед... Я был рад, что хотя домашние сразу узнают, где мы, чтобы не было лишних тревог...
Привезли. Сняли в канцелярии опрос и направили нас в “особый ярус” к отделенному. Тут нас раздели, тщательно обыскали, пересмотрели все вещи со всею скрупулезностью, сняли все неполагающееся: лекарства, карандаш, бумагу. Конечно, ножницы и нож, и мы простились с Юрием Петровичем. Он дважды благословился у меня, расцеловались. “Ну, дай Бог встретиться при более благоприятных обстоятельствах”, - сказал он, и мы расстались...
Меня отвели в 134-ю камеру, принесли матрац (соломенный), надзиратель объяснил порядки, причем проявил мягкость и сочувствие (в тоне, в обращении), а это все так ценно в эти минуты... И я поселился на жительство, неизвестно надолго ли...
К вечеру привели вооруженный конвой из красноармейцев (это, оказывается, только ради нас - приговоренных), так что при всяком получении кипятку у дверей камеры, кроме надзирателя непременно появлялся и солдат с ружьем. Слышно было, как приводили и рассаживали по камерам остальных. Но я так и не узнал, в какой камере кто поместился, кроме о. Сергия, о котором случайно узнал, что он в 138-й. Наступила ночь. Прошло ведь 48 часов со времени произнесения приговора. Возможно приведение его в исполнение. И вот при каждом шуме на коридоре, при каждом громком приближении шагов, - ждешь, не к тебе ли, не за тобой ли? Не на полигон ли? Жутко было. Особенно было больно и тяжело, что даже и тела не найдут родные, даже и места знать не будут, не придут, не помолятся над могилой.
Что касается самой смерти, самого расстрела, то к этому тоже не безразлично было отношение: это же обстоятельство - неизвестности места расстрела, не публичности его, так сказать, тоже действовало угнетающе. В этом отношении, кажется, легче было переносить смертную казнь, когда она совершается публично. Тут подбодряло присутствие свидетелей. Человек невольно, так сказать, бодрился. А предоставленный только самому себе, один с глазу на глаз со смертью, он невольно, я думаю, должен падать духом, или, во всяком случае, более тяжело переносить эти минуты. Так мне думалось в те томительные часы. Разумеется, все мысли были о смерти, о детях, о жене, с которыми не удалось даже проститься, которых не удалось благословить, сказать им последнее слово. Я не понимаю этой жестокости: почему приговоренному к смерти не предоставить последнего свидания с семьей!
Так часов до 2-х ночи тревожно лежал я, ожидая каждую минуту, что откроют дверь и - позовут... Я знал, что отвозят на полигон только около полуночи. Поэтому под утро я уже засыпал спокойно, зная, что на эту ночь чаша сия пока миновала...
Так прошла первая ночь на Шпалерной. В субботу, 25июня/ 8 июля утром принесли и дали под расписку печатный экземпляр приговора, которым и занялся. После обеда вдруг неожиданно к форточке подбегает потихоньку один надзиратель (кажется) и сообщает по секрету: “Приговор остановлен, расстрела не будет, из Москвы получена телеграмма; только никому ни слова, здесь каждый шаг известен”. И скрылся... Господи, какие слезы благодарности я пролил пред иконой, что еще не погибла надежда, что еще возможна жизнь для семьи, для Церкви... На душе стало спокойнее. Но вот уже в постели, слышу смену караула и приказ старшего часовому (только отдельные слова) “...стрелять... вверх... наповал”. Первая мысль о том, как привести приговор в исполнение; вторая - что, может быть, если заметят какие-либо шаги со стороны арестанта к побегу что ли, то чтобы стрелять не в воздух, а наповал убивать. Опять те же мысли, те же волнения, что и накануне, и только под утро заснул.
Наконец, в воскресенье, около полудня, смотрю, уже нет часовых – сняли, очевидно, вследствие полученной телеграммы о приостановке приговора…
Так началась жизнь в затворе. Ежедневно, и то украдкой, в окно видел гуляющих; усмотрел духовных: о. Гурия, Льва, о. В.Лебедева, Чокоя, Преосв. Иннокентия; потом Кремлевского, Ивановского... Увидели и они меня. И ежедневное приветствие взаимное вносило отраду некоторую: все-таки повидать знакомого человека...
1/14 августа 1922 г. Как я провожу день в тюрьме.
Мы сидим в строгой изоляции, и потому все время проводим в камере, лишены прогулок, книг, газет и даже пользования карандашом и бумагой. Единственный выход из камеры - два раза в неделю к отделенному за получением передачи (понедельник и пятница), да раз в полторы недели в баню (вернее, ванну). Единственный раз я прогулялся в кабинет зубного врача, чтобы показать больной зуб.
День наш начинается часов в 7-8. Я встаю, обыкновенно, услышав звон колокола какой-то ближайшей церкви, вероятно, в 7 или 7 с половиной часов. Умываюсь, молюсь, причащаюсь запасными св. дарами и жду, когда откроют форточку в двери, и заглянет надзиратель(-ница) и предложат хлеба (от которого, как и от обеда и ужина я отказываюсь) и кипятку. К этому времени я уже кончаю утренние молитвы по молитвослову и помянник (там же), как и дневное Евангелие. Затем – чай, уборка комнаты и некоторое время хождение из угла в угол (вернее – от окна к двери). Потом гимнастика, как совершенно необходимое средство привести в усиленное движение весь организм, и тем, хотя отчасти бороться с одолевающей полнотой, являющейся результатом нормального питания при совершенно ненормальном бездействии и отсутствии движения.
С ударом колокола в церкви в 10 часов (а часто и раньше), пою литургию; в праздник – всю с начала до конца, в будни – с “Верую” до причастного стиха. Это занимает довольно много времени, потому что я прочитываю (наизусть) всю тайную евхаристическую молитву и, на свободе, поминаю особенно подробно ежедневно всех, кого только знал, умерших и всех родных и знаемых живых. Окончив это моление (которое я совершаю, ходя по камере), я ложусь и читаю несколько глав (обыкновенно 3-5) Евангелия (по порядку).
Так проходит время до обеда – 12 часов. Тут обедаю, потом пью чай, и наступает вторая часть дня, вся посвященная думам. Внешне – и лежу, и хожу, и опять лежу и хожу, и все думаю и думаю... И чем оживленнее думы, тем быстрее ходьба...
Жизнь моя была очень содержательна, есть что вспомнить, и этим воспоминаниям и посвящаю я все эти часы. Все передумалось, все перепомнилось. И раннее детство, и школьные годы, и годы юности, и годы службы... Вспоминал все мелочи жизни в детстве и в отрочестве, в семье, характере влияния папы и мамы на мой внутренний строй, влияние наследственности, среды и воспитания на создание моего характера, моих взглядов, моей жизни. Подробно вспомнил и отличительные черты характера папы и мамы. Словом, всколыхнул все детство, все отрочество, и решил написать свои семейные воспоминания на память детям. Подробно вспоминал и проанализировал источники на образование моего религиозного настроения, кто и что влияло на мое умственное развитие; вспоминал даже и характер развлечений юношества; и все это решил запечатлеть в семейных воспоминаниях.
Потом мысль перешла к годам службы. Здесь перепомнил многое множество фактов и из службы и из разного рода сношений, встреч, знакомств. И тут пришла мысль, во-первых, написать совершенно законченную историю церковных школ Олонецкой епархии по материалам печатным и рукописным (у меня находящимся и только мне доступным) и, во-вторых, воспоминания об этой поре жизни, которые естественно не могут войти в научный труд, как представляющие материал биографический. Эти воспоминания о годах службы надумал отпечатать под заглавием “Встречи и знакомства”. Сюда же может быть отнесен и третий период моей жизни – Петроградский до суда и осуждение на расстрел включительно...
Кроме этих мыслей о прошлом, которые, выяснив все сделанное, доставляли вместе с тем и отраду за принесенную пользу обществу, обдумал и новый специальный курс христианской педагогики для Богословского института, где все педагогические системы были бы рассмотрены с христианской точки зрения и самая педагогика понималась бы в широком смысле христианского воспитания человека вообще. Затем шли мысли о том, что и как лучше сделать по собору, о доме, о детях. Между прочим, в связи с воспоминаниями о собственном детстве и отрочестве, о тех немногих - к великому сожалению - моментах, какие запечатлелись в памяти с особенной теплотой, - моментах сердечной беседы и общения с папой и мамой, - надумал, если и когда вернусь домой, то непременно устроить, чтобы один вечер в неделю (хотя бы часов с 9) все решительно домашние отдавали только семье. Тут вместе, часа полтора-два можно бы читать (кстати, повторить главное из классиков), беседовать. Это общение потом светлой точкой светило бы в памяти всех детей, и связывало бы теплыми воспоминаниями всех друг с другом, когда разлетятся все в разные стороны, когда и нас с женой не будет... Я теперь, например, очень жалею, что таких минут у меня в отрочестве было мало, но те, которые были, так милы теперь, так отрадны и трогательны...
Вот в каких думах (которые потом все более детализировались) проводил я время с 1 часа до 5 часов вечера.
В 5 часов вечера разносят ужин (от которого я также отказываюсь) и кипяток. Пью чай. Затем обыкновенно читаю по молитвослову вечерню (а под праздник совершаю всенощную), читаю канон и молитвы перед причащением (ибо каждый день утром я причащаюсь запасными св. Дарами) и вечерние молитвы. Забыл сказать, что пред 5-ю часами я обыкновенно читал псалмы, избранные по молитвослову, или акафисты и т.п. Затем опять хождение по камере до ужина – часов в 8-9, и опять хождение и думы, пока не одолеет сон...
Это месячное затворничество дало мне возможность обдумать и проанализировать жизнь и, если удастся написать воспоминания, то они могут быть не только интересны в смысле общественном, но и поучительны, особенно, конечно, для детей, для которых, собственно, я и хочу их написать.
Некоторое разнообразие вносили понедельники и пятницы, когда приходила “передача”. “Передача” это обыкновенно доставлялась нам к вечеру, иногда часов в 7-8. Сначала мне ее приносили, а потом вдруг стали приглашать за ней самого. Тут я догадался, что в судьбе моей, вероятно, произошла перемена. Это и подтвердилось: 20-го июля (старого стиля), вечером какой-то незнакомый надзиратель открывает форточку и сообщает по секрету, что нас 6 человек помиловали, а о 4-х еще неизвестно... Добрая душа. Не знаю, сколько она внесла отрады в жизнь, и какими слезами благодарности я ответил на это сообщение... То же было и раньше, на другой день нашего приезда на Шпалерную, когда кругом часовые, когда я ждал расстрела, прибегает потихоньку днем какой-то надзиратель и сообщает наскоро: “Расстрела не будет, пришла из Москвы телеграмма, приговор остановлен”... “Но никому, ни слова... Здесь каждый шаг известен”... Я даже спасибо не успел, кажется, сказать ему. Ну, Господь ему вменит это сочувствие...
12/25 августа 1922 г. На новом месте.
Со вторника, 9/22 августа, мы уже не на Шпалерной, а в Пересыльной, на совершенно новом положении. Но скажу обо всем по порядку…
1/14 августа, в понедельник, около 5 часов помощник начальника Бекетов приходит в камеру и читает, что по представлению Верховного трибунала Президиум ВЦИК заменил расстрел заключением на 5 лет. Конечно, радость понятна, но сейчас же, хотелось узнать, всем ли 10 человекам это заменено, или нет. Вечером, при передаче, справился у надзирательницы, объявлялось ли Новицкому и митрополиту; оказывается, что их уже нет с субботы... Где? Тут я вспомнил, что около 11 часов вечера в субботу я слышал, как кого-то выводили из камер наших… Вероятно, тогда их и взяли... Перед этим, в субботу, 12 августа днем, совершенно для меня неожиданно, меня вызвали на свидание. Пришла жена, Аня и Верочка. Свидание дал Озолин; научил Равич. От неожиданности как-то сумбурно шел разговор. Конечно, радость понятна. Тут узнал много, чего совсем не знал, будучи совсем отрешен от мира с 5 июля. Именно: что о 6 человеках было давно им известно, что имущество у нас опечатали, как и у о. Леонида; что надо заплатить миллиард, который и платит собор, собирая среди прихожан, что ...и многие стараются помочь, кто, чем может.
Настоятелем “Живой Церкви” назначили о. В.Афанасьева. “Живая Церковь” сняла со всех нас саны, а с митрополита и Венедикта - и монашество. В “Красной газете” было письмо из Петрозаводска с упоминанием обо мне, как ставленнике буржуазии. В институте вместо меня избран исполняющим обязанности ректора Карсавин. Боярский и Введенский ведут диспуты о “Живой Церкви”. В соборе при встрече нового архиепископа раздавался шум, свистки, Боярскому не давали говорить слово. Налимов и Прозоров не были при встрече. Снимки нас осужденных выставлены у Публичной библиотеки. Равич говорил, что теперь к нам режим будет иной – более легкий, что, вероятно, нас скоро переведут в другое место и дадут работы. Это бы лучше. Жижиленко говорил, что в ноябре амнистируют. Я этого не думаю: скоро очень.
25 сентября/8 октября 1922 г. Воскресенье, 10 часов утра.
Полтора месяца прошло после ухода из особого яруса со Шпалерной, а обстановка такова, что совсем не было настроения заняться дневником, чтобы записать события, которых, однако, было много, хотя и мелких. Начну по порядку и кратко.
1/14 августа, в понедельник, помощник начальника ДПЗ объявил нам днем постановление ВЦИК о помилования нас и замене расстрела тюремным заключением. Кстати, замечательно, что даже строгой изоляции не дали... Не объясняется ли это тем, что, как здесь было слышно, со слов чуть ли не А.А.Жижиленко, что когда наше дело в Москве передали на рассмотрение какой-то юридической комиссии, то она будто бы не нашла состава преступления! Потом составили уже вторую комиссию, с Красиковым во главе, которая и вынесла помилование 6 человекам и утвердила приговор о четырех. Не знаю, насколько это верно. Потому что слух о 6 и 4 почти с самого начала циркулировал в Москве в соответствующих сферах: а по некоторым слухам, это разделение будто бы было даже еще здесь, в Исполкоме Петросовета, намечено.
Вообще, слухов всяких много. В частности, относительно четырех: митрополита, о. Сергия Шеина, Ю.П. Новицкого и И.М. Ковшарова. Мы все слышали вечером 30 июля/12 августа, как их выводили из камер. Но куда они делись потом - неизвестно. Один слух - увезли в Москву, будто бы для показаний по делу Патриарха; потом этот слух изменился так, что митрополит отправлен в Соловки, а третьи - сидят в Московской ЧК под большим секретом. Подыскивается и мотив к этому слуху: какие-то переговоры с Америкой и желание показать, что жестокостей нет.
Думаю, что верен другой слух, что все четверо расстреляны. Передавали и подробности, что митрополит и о. Шеин были предварительно обриты и острижены, что Шеин и Ковшаров смело и с достоинством шли на казнь, Новицкий плакал, а с митрополитом будто бы случился сердечный припадок. Разноголосица лишь в пунктах расстрела: одни - на полигоне, другие – в Удельном, третьи в крепости, четвертые – за Стеклянным заводом, наконец, пятые, - в Михайловском манеже. Все варианты называют как участника – Озолина. Где правда? Сказать трудно, но вероятно, что их нет в живых.
После объявления постановления ВЦИК, мы еще до четверга сидели в особом ярусе (я - в 134 камере); за это время у меня было три свидания с женой и детьми (в субботу, вторник и четверг). Наконец, в четверг нас перевели в VI строгое отделение, и я попал в камеру 56 вместе с М.П.Чельцовым. Трогательна была наша встреча с ним, хотя до сего мы и мало были знакомы друг с другом. Зажили вдвоем. В тот же день испросили себе прогулку и впервые после 24 июня /7 июля – через сорок два дня, 4/18 августа мы подышали свежим воздухом.
Пять дней пробыли мы в этом отделении и, после особого яруса, этой страшной преисподней, да еще с такими тяжелыми переживаниями, сидели здесь вдвоем, в беседах, в совместной молитве, в обсуждении многих вопросов, при почти всегда взаимной солидарности, - сиденье здесь показалось совсем не тюрьмой: я на второй день забыл, что я не на свободе, так как легко стало на душе. Свидания продолжались, режим был слабее. Наконец, во вторник 9/22 августа, было объявлено, что мы переводимся во 2-й Исправдом. Часа в 3 мы отправились, с конвоем пешком, нагруженные вещами. Немногие знали о моменте нашего перевода, и потому сопровождавших не было. Только в середине пути кое-кто из знакомых подходил, да один облегчил тяжесть нашего пути тем, что нанял извозчика, на которого мы и сложили наши вещи. А иначе, я не знаю, как и снес бы: уже весь был мокрый от жары...
Во 2-м Исправдоме нас направили в пересыльное отделение, камеру 4, где нас встретили тоже церковники: еп. Иннокентий, архим. Гурий, иером. Лев, В.Б.Шкловский, Н.Д.Красильников, А.М.Шабельский. Тут же были В.В.Протопопов и кн. Оболенский П.Н.
Начинал совместную жизнь по строго размеренному порядку. Утро и вечер отводились продолжительной общей молитве, под праздник всенощная, а в праздники - обедня с причащением Св. Тайн. Днем – часы молчания для занятий. Вечером рефераты по разным вопросам: о Живой Церкви и отношении к ней, по вопросам литургическим, миссионерским... Так прожили мы две недели, пока 23 августа/5 сентября наших компаньонов не увели от нас на Гороховую. Слышно, что они там были до последнего времени; был слух об их высылке в Архангельск, но справедлив ли - неизвестно.
25 августа/7 сентября и нас перевели из пересыльного в VII отделение, в 94 камеру, очищенную, побеленную. Этот перевод состоялся в связи с нашим определением в преподаватели к рецидивистам, которые помещаются все в этом же VII отделении. Поместили здесь 7 чел. (с Оболенским). Потом подсадили к нам двух Дьяковых - отца и сына; потом М.Ф.Клементьева, но их скоро выпустили, а к нам вместо них перешел Л.Н.Парийский. Так 8 человек мы и живем вот уже месяц.
С внешней стороны распорядок жизни тот же. Днем заняты преподаванием. У меня группа малограмотных. У моих коллег группа грамотных. Я преподаю один все предметы, а они попредметно.
Я в особом библиотечном помещении, куда мои “студенты” приходят; а они - в камере 37, где и живут их ученики. Последнее – весьма неважно отражается на занятиях: в камере есть и мающиеся, которые отвлекают учащихся. У меня в этом отношении условия более благополучные. К тому же группа моя так сказать откристаллизовалась: 13-14 человек устойчиво ходят, занимаются порядочно, слушают внимательно, работают часто с интересом. Вообще создаются хорошие отношения и заметно влияние. Все почтительны. Все это большей частью осужденные за кражу, ребята смышленые, лет по 20-25. Голодают многие, и наша камера обычно ежедневно раздает своим ученикам хлеб, что получает на паек, а также и из своих передач, которых много присылают, особенно Преосв. Венедикту. Иногда носим передачи для раздачи даже в лазарет больным.
Режим здесь значительно легче. Камера наша не запирается. Мы свободно выходим на коридор, ходим в лазарет и т.п. Отношения всех - и властей и арестованных - хорошие. Правда, доносятся слухи, что посаженные или “подсаженные” коммунисты и чекисты нет-нет, да и сделают донос, что кто-либо относится покровительственно к “попам”. Из таковых - один сам бывший “поп” – “Христос” Тарабаев... Но, в общем - живем благополучно и благодушно. Компания дружная и тесная. Старички-генералы (Огнев и Елачич. – Л.А.) иной раз являются предметом веселой и доброй шутки, сами шутят; нередко слышатся остроты. Смех подбодряет и облегчает тюремное сидение, камера - при всех льготах - все-таки дает себя знать и на нервах и на состоянии здоровья. Свидания здесь довольно свободны и часты.
7/20 октября 1922 г. Пятница. 5 часов вечера.
С удовольствием занимаюсь в школе с арестантами. Родное дело, которому отдал жизнь, бодрит; придешь с утра в пасмурном настроении, а возвращаешься в камеру всегда в приподнятом, бодром. Слушают внимательно, ходят хорошо, исправно; по крайней мере, нет того, о чем говорят коллеги, что к концу урока 3-4 человека остается. Правда, особое помещение для занятий у меня благоприятствует занятиям; в камере заниматься, конечно, хуже. Сегодня прислали из дому уже теплую рясу: становится холодно. В камере замазали рамы. Приготавливаемся к зимовке...
10/23 октября 1922 г. Понедельник. 10 часов утра.
Вчера исполнилось два месяца, как мы сидим во 2-м Исправдоме. Ждем все амнистии, надеемся, что как-нибудь она облегчит наше положение. Хотелось бы уйти, как ни неприятно и не опасно... Вчера принесли слух, будто Пелагея Дмитриевна Новицкая (Мать Ю.П. – Л.А.) писала, что Юрий Петрович “несомненно, жив”, почему просила отслужить молебен. Дай Бог, если это так.
16/29 октября 1922 г. Воскресенье. 10.30 утра.
У нас в камере радость: в пятницу, во время дневной молитвы (акафиста), часа в 4, неожиданно коридорный сообщил, что кн. Оболенский освобожден. Совершена молитва и к вечеру князь, просидевший ровно 28 месяцев, ушел домой. Мои нервы настолько взвинчены, что я не мог удержаться от слез радости. А вчера и другой наш соузник, - правда, не с нами сидящий, но по нашему делу осужденный, молодой человек - Вас. Федорович Киселев, тоже получил освобождение.
В связи с амнистией все больше и больше распространяется слухов и “редакций амнистии”. Сообщают, что 2/3 снимутся, а затем для всего прочего времени зачисляется предварительное заключение с зачетом месяц за три; все же остальное время признается “условным”. Таким образом, нам, осужденным на 60 месяцев, скидывается 40 месяцев; 5 месяцев, просиженных нами, засчитываются за 15 месяцев, а на остальные 5 месяцев мы освобождаемся “условно”, так что “условность” окончится около конца марта по новому стилю.
О, если бы было так! Только вряд ли... А жить тут очень трудно: ревматизм в спине по утрам все усиливается и усиливается, так, что еле-еле поднимаешься с постели; лекарства почти не помогают, вследствие страшной сырости в камере (по стенам течет), хотя М.П.Чельцов каждый вечер и натирает меня усиленно втиранием так, что кожа трещит.
4/17 декабря 1922 г.
С 30, в ночь на 1-ое, исполнилось уже четыре месяца с тех пор, как Владыку митрополита и «иже с ним» взяли со Шпалерной... В течение четырех месяцев о них ни слуху, ни духу. Много было разговоров о переводе их в Москву, о высылке в Соловки, в Суздаль. И, наоборот, из сфер Трибунала слух - определенные сведения об их расстреле. Амнистия 2 ноября (13 ноября) говорит о пересмотре дел в тех случаях, если приговор не приведен в исполнение. Следовательно, если бы они были живы, о них обязательно должна была бы быть речь в Трибунале в смысле или подтверждения приговора, или замене этой меры наказания другой - низшей. Ничего этого не было, хотя дело наше рассмотрено. На этом основании, подумав, решили 1 числа отслужить по нашим страдальцам панихиду и перенести их из заздравного синодика в заупокойный. Так и сделали. Парийский, однако, все время уклоняется на молитве от ектении заупокойной по Владыке.
Сегодня газетное сообщение о Хотовицком (сщмч. прот. Александр, товарищ по СПб Академии 1895 г. выпуска. – Л.А.) - расстрела нет, приговорены «по совокупности преступлений» к десяти годам. Слава Богу, что нет крови...
В поминовении опять перемена: Лев Николаевич (Парийский. – Л.А.) просил выделить Владыку митрополита и «иже с ним» в особое прошение – «о милости и спасении» в виду неизвестности их смерти.
8 / 21 декабря 1922 г.
Один из сидящих здесь - инженер Всеволожский рассказывал Преосв. Венедикту вчера и сегодня на прогулке о смерти владыки митрополита. Как будто верны слухи о переодевании его, об обмороке с ним, продолжавшемся четверть часа, причем во время обморока не было приказано стрелять в него, а тогда, когда он очнулся, стреляли в висок, смерть наступила не сразу - потекла кровь по лицу на бороду, и митрополит не раз правой рукой провел по бороде, смахивая кровь. Все это рассказывал ему тот, кто и стрелял будто бы в митрополита, - некто Смирнов, бывший старостой в 1-ой общей камере на Гороховой, бывший прежде комендантом Смольного, а теперь состоящий начальником таможни. Насколько все это правда, трудно сказать. Одно верно, кажется, что нет их в живых, и это - наши мученики за Церковь…»[19]
* * *
Рождественскую службу 1923 года заключенные отслужат в камере, «духом все в Господе...». Первым на свободу в августе выйдет прот. Леонид Богоявленский, а остальные пятеро помилованных «смертников» – только 30 ноября 1923 года.
Читатель, наверное, обратил внимание на то, как упорно главный обвинитель Красиков старался выявить в ходе Петроградского процесса несуществовавшую связь обвиняемых с Карловацким Собором. Согласно тексту приговора: «…князья церкви, следуя директивам, идущим от международной буржуазии, вступили на путь борьбы с Советской властью», он ее все-таки «выявил». В результате после приговора из родного Петрозаводска наряду с письмами, выражающими сочувствие и поддержку, прот.Николай получил также и характеристику «ставленник буржуазии». Однако в дневнике о. Николая нет ни одного слова осуждения Карловчан.
В то же время непонимание или нежелание РПЦЗ понимать обстановку, в которой жила Русская Православная Церковь в СССР, продолжалось и дальше, в течение многих десятков лет, когда говорилось: «Нас разделяет также вопрос о новомучениках, чей подвиг, и даже сам факт гонений, Московская Патриархия отрицала в течение многих лет»[20].
Ко времени выхода узников Петроградского процесса на свободу из Москвы в Петроград в сентябре 1923 г., когда «Живая церковь» уже захватит Казанский собор и большинство храмов города, прибудет новый управляющий епархией молодой епископ Мануил Лемешевский. В декабре 1923 года прот.Николай запишет в дневнике:
«22 декабря 1923 г. …сообщил Преосв. Венедикт и одну подробность весьма характерную, касающуюся нас – бывших заключенных. Он заговорил с еп. Мануилом о том, что есть люди с большим административным опытом, которые могли бы быть очень полезны для епархиального управления, и которых к тому же надо бы обеспечить, как и их семьи. – «Вы кого разумеете?». Преосв. Венедикт назвал нас - соузников. Тогда еп. Мануил изрек чрезвычайно характерное для его образа мыслей возражение: «Да, но они опороченные…». Вот взгляд на нас епископа, который очевидно не знает и не понимает, что народ смотрит на нас, как на исповедников, что, в таком случае, надо большую часть св. отцов времен арианства тоже считать «опороченными», что для Церкви мы уже ни в каком случае таковыми считаться не можем, что это взгляд гражданской власти, а не церковного общества. Да, утешил...». Очевидно, что когда еп. Мануил вскоре сам попал в заключение, он уже так не думал.
«Это – наши мученики за Церковь…» – было сказано прот.Н.Чуковым, впоследствии одним из видных архиереев Русской Православной Церкви (МП), еще 8 декабря 1922 года. Узнав, что, несмотря на все его старания (снятие отлучения с о. Введенского) по смягчению участи владыки и других заключенных, митрополит приговорен к расстрелу, будущий Патриарх Алексий разрыдался. Так что можно считать, что Московская Патриархия прославила своих мучеников уже давно, и гонений, соответственно, не отрицала.
 «Когда избавит нас Творец от вида этих
зверских типов!..» – писал прот.Н.К.Чуков
в тюремном дневнике, и, думается, это было для него не безопасно. После заключения
в 1922–1923 гг. впереди у него будет многолетнее
окормление паствы, а также еще два ареста, пятилетняя ссылка и архипастырское
служение в условиях коммунистического режима.
«Когда избавит нас Творец от вида этих
зверских типов!..» – писал прот.Н.К.Чуков
в тюремном дневнике, и, думается, это было для него не безопасно. После заключения
в 1922–1923 гг. впереди у него будет многолетнее
окормление паствы, а также еще два ареста, пятилетняя ссылка и архипастырское
служение в условиях коммунистического режима.
Похожую фразу в 1924 году в Париже в своей речи «Миссия русской эмиграции» скажет И.А. Бунин: «Говорили – скорбно и трогательно – говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменит орду»! Давайте подождем и мы»[21].
С той лишь разницей, что находился он на вполне безопасном расстоянии от этой «орды».
Официальное прославление Русской Православной Церковью (Московской Патриархией) подвига новомучеников и исповедников Российских началось сразу же, как только это стало возможным.
Новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!
Источники:
1. Григорий (митр.) Чуков. Дневник,
фрагменты; документы, фотографии. Архив Историко-богословское наследие
митрополита Григория (Чукова) © Александрова Л.К. СПб. 2011.
2. Его же. Петроградский процесс 1922 года. Дневник // Наш Современник. 1994. №4.
С.173-180.
3. Его же. Дневники 1918-1922 годов. Последние годы святительства митрополита
Вениамина // СПб ЕВ. 2004. Вып.32. С.73-81.
4. Александрова-Чукова Л.К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды //
СПб. ЕВ.2007.Вып.34.С.71-72.
[1] Уголовный кодекс РСФСР 1922 года http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/Temp
[2] Создание РККА – Рабоче-крестьянской Красной Армии. См.: http://www.bibliopskov.ru/23fevr.htm
[4] Чельцов Михаил, прот. Воспоминания «смертника» о пережитом. М. 1993. С.74.
[5] Там же. С.90,92.
[6] Там же. С.142.
[7] Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М.1996.С.191.
[8] Там же. С.83-85.
[9] Архив УФСБ по С-Петербургу и Ленинградской обл. Д.П-89305.Т.6.Л. 43.
[10] Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917-1943. М. 1994. С.284.
[11] Архив УФСБ по С-Петербургу и Ленинградской обл. Д.П-89305.Т.5.Л..381-382, 382 об., 383.
[12] Там же. Л. 385, 386, 386 об., 391, 392.
[13] Там же. Л.399об., 400, 400 об.
[14] Там же. Т.1.Л.438.
[15] Левитин-Краснов А., Шавров В. Указ. соч.С.141.
[16] Архив УФСБ по С-Петербургу и Ленинградской обл. Д.П-89305.Т.27.Л. 1-14.
[17] Там же. Т.5.Л.402, 404.
[18] Колосов. Ю.И. Эскиз к портрету интеллигента. Юрий Петрович Новицкий // История Петербурга.№4(8).2002.С.33-41; Коняев. Н.М.Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский. СПб.1997.С.172. Автор приносит сердечную благодарность Ю.И. Колосову и Н.М. Коняеву за консультации.
[19] Тюремный дневник дается практически полностью, за исключением авторских повторов и перечисления лиц, посещавших прот. Николая в заключении.
[20] Послание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей верным чадам Русской Православной Церкви в отечестве и в разсеянии сущим // Православный Вестник Нью.- Йоркской и Канадской Епархий. N.Y. Июнь-июль 1990 г. С.2.
[21] Бунин И.А. Миссия русской эмиграции. Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года. В сб. Окаянные дни. М.1991. С.332.
